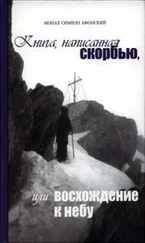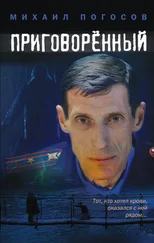* * *
— Андрюха! — кричу я.
— А!
— Чё делаешь?
— Да так, канителюсь, — с запозданием отвечает он.
— Как с положухой? — интересуюсь я.
— Да нормально.
— Настроение?
— Лучше всех! А ты как, Мишаня?
— Пойдет. Тигра, — кричу Лёхе, — ты здесь?
— Да, здесь, — отвечает откуда-то из глубины камеры.
— Чё делаешь?
— Чайку заварил.
— Хорошо тебе.
— Да чё хорошего, нет больше ни хера. Мамка должна передачу на днях сделать, вот ожидаю.
— Понятно, — говорю. — Ладно, если что, шумите, я отошел пока. А! Кстати, Андрей Юрьевич!
— Чё!
— У меня там портфель кожаный Ferre в вещах, в каптерке. На суд поедешь, себе заберешь. Он мне больше не пригодится. Ты только выложи из него все бумаги, хорошо?
— О, ништяк, спасибо, дружище! — благодарит он.
— Ну всё, я ушел.
— Давай.
Так время от времени мы кричали друг другу. Это приравнивается к злостному нарушению. Несколько слов вслух другу или незнакомому человеку — это цена, за которую ты покупаешь дополнительные пятнадцать суток карцерного «комфорта».
Потом «милиции» что-то не понравилось, и Андрюху куда-то перевели. Его наспех собрали.
— Всё, Мишаня, давай, братан, крепись, меня уводят, — успел он сказать, подходя к моей двери. Еще он пытался заглянуть (и заглянул все-таки) в мой глазок, но его быстро оттащили от двери. Ему такое обращение явно не понравилось.
— Чё ты меня пихаешь? — возмущался он громко.
— Давай на выход уже иди! — кричала на него «милиция». — Совсем оборзел!
И он ушел.
Без него стало тихо, грустно и скучно. Я подумал, что скоро окажусь в таком месте, где в радиусе пары сотен световых лет не будет ни одной родственной и знакомой души. Стало еще тоскливей. Но я вернулся к своему приговору и продолжил работать. Это отвлекало от грустных мыслей.
* * *
Тот день ничем не отличался от предыдущих. Все катилось по накатанной, отвратительно ненужной колее. Ты катишься по ней и принимаешь скверность каждого дня как данность, от которой не в силах никуда деться. Всё то же тяжелое пробуждение, баланда, первая сигарета, тошнотворность утра и онемение мышц от твердого пола. Мутные, тяжелые мысли и патологическое нежелание понимать свое нахождение.
Погулял днем, погода была замечательная. Я сказал Тигре, что он зря не пошел. А он как-то лениво отмахнулся. Часто пропускал прогулки.
Заместо Андрюхи посадили какого-то дагестанца по имени Султан. Довольно разговорчивого, добродушного и вроде как неплохого чела. После двух дней общения он уже называл меня «братан», я к подобной форме всегда относился с молчаливым скепсисом. Он приглашал меня к себе в деревню, в Дагестан, поесть барашка и отдохнуть. Лет через десять. Он почему-то был категорически уверен, что меня освободят через червонец. Я, конечно, был рад таким светлым прогнозам, но мое внутреннее чувство рисовало мне другие, не столь радужные перспективы. И вообще, я всегда с иронией относился к таким легкомысленным предложениям. Ведь ясно, что не то что через десять лет, а даже через три-четыре года он не вспомнит моего лица и тем более имени, как и я его. Я не любитель разбрасываться пустыми приглашениями, зная, что этого не произойдет.
С Султаном мы тоже не скучали, он оказался шебутным малым, говорил со смешным акцентом и шепелявил, так как у него не было передних зубов. Выбили в СИЗО. Он тоже был соринкой в глазу у администрации. Как-то на днях, в субботу, за ним пришли несколько человек и куда-то увели. Привели через двадцать минут. Избитого. Завели в темный переход и без слов избили его вчетвером. Синяки, гематомы, отбитые почки, кровь в моче, трещины в ребрах — неизменные сопровождающие признаки и «награды» страдальцев, которые прут против администрации. Отрицалово. Оно болезненно. Оно больно. Это тяжелая, нелегкая ноша. Не каждому удается донести ее до конца.
И вот в тот день он тоже получил пару пиздюлей за то, что не сделал доклад на дневной проверке. А тех, кто не докладывает, — бьют и не пускают на прогулку. Злость, унижение, ненависть, отрицание всего копится в этих людях. А вечером, когда отпускают эти разрушительные чувства, мы все над этим смеемся. Смеемся над тем, как нас избивали, и смех отдается болью в ребрах. Но мы смеемся! Потому что смех целителен. Потому что смехом мы лечимся и выражаем протест. Потому что так мы заявляем, что нас не сломать! Потому что так легче. Со смехом. И тогда, под вечер того дня, мы о чем-то громко смеялись — я, Тигра, Султан и еще был четвертый, но он был какой-то «улетевший», молчаливый. Я хорошо запомнил этот вечер и особенно следующее утро, потому что это было Крещение, 10 января, и потому что случилось это.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу