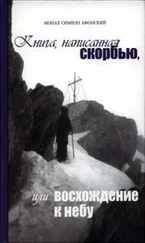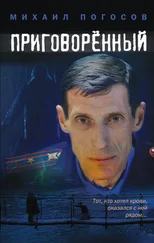Люди, искушенные в таких делах, посчитают меня наивным молодым юношей. Да, именно таким я и был. Я впервые столкнулся с законоприменительной практикой, я действительно верил (хотя после суда первой инстанции уже не очень), что закон работает ровно так, как он изложен черненькими буковками на белых листах многочисленных кодексов, которыми я обложился. Я жестоко ошибался!
Между теорией и практикой — пропасть. Я непростительно ошибался. Об этом же мне говорил и Слава, мол, не стоит обольщаться и надеяться на Москву. Но что вы, я активно возражал и продолжал верить в объективность и справедливость Верховного суда РФ. Самостоятельно отказываться от почти последней надежды — хуже самоубийства! Слава же хотел аккуратно приподнять с моих глаз розовые очки, сквозь которые я не замечал реальность. Я отмахивался, наивно цепляясь за каждую соломинку, веря, что она выдержит.
Каждый день, затыкая уши влажной ватой от шума радио, я читал приговор. Делал выписки, заметки. Цеплялся в темноте зрением за буковки в довольно толстом приговоре. Находил нарушения, противоречия — выписывал. Уносил Славе. Он что-то отбраковывал сразу, а что-то отмечал себе. Я работал! Работал, сидя на полу по-турецки. Столиком у меня был железный табурет, приваренный к шконке. Жесткая аскеза! Я, голая камера, приговор, бумага, ручка, нормированная плохая еда, немного сигарет, совсем мало сна и нервы! Nothing else! Ничего не существовало для меня тогда. Только я и приговор. Между ними — моя заинтересованность, мой крохотный шанс. Я хоть и знал, что за меня это сделает Слава, сделает лучше, но я не мог себе позволить сидеть и ждать. Мне нужно было действовать! И я действовал как мог, в силу своего посредственного интеллекта. Время летело. Но главное, у меня появилось чувство, что я оказываю определенное влияние на ход собственной судьбы. Безусловно, это влияние было ничтожным, но чувство сопричастности, чувство собственного небездействия имело внушительную положительную силу. И при худшем исходе я скажу себе, что сделал всё, что смог. Лучше сожалеть о допущенных ошибках, чем об упущенных возможностях. А лучше вообще не сожалеть! Прожить жизнь одной сплошной непрерывной линией, где-то яркой, где-то не очень ровной, но не оглядываясь назад. Иначе сожаления о прошлом сожрут тебя по кусочкам, медленно, мучительно, и не дадут покоя в настоящем.
Под натиском бумажной и аналитической возни мои дурные мысли о «запасном выходе» отдалялись от меня все дальше и дальше, но не так сильно, чтобы совсем не брать их в расчет. Эта мысль все же гнездилась у меня в виде черной тревожной точки где-то в глубине затылка. Печальные образы горя, фатальные картины, кровавые тени как продукт визуализации часто посещали меня. Вообще, следует признать, что подобного рода мысли прокручивает у себя в голове каждый психически здоровый человек. Но с разной частотой и насыщенностью трагических красок. А при столкновении с определенными жизненными обстоятельствами, такими как плен, война, неизлечимая болезнь, смерть близких, тюрьма, особенно пожизненно, этот процесс занимает наше воображение чаще, плотнее, нестерпимее, заставляя задумываться о главном… А что может быть важнее, чем Рождение и Смерть? Начало и Конец. Между ними есть ты — с какими-то идеями, деньгами, вещами, повседневной суетой, удовольствием, едой — всем тем, что заполняет твою жизнь. И только жесткие жизненные потрясения заставляют нас выйти из привычной системы мыслительных координат, где мы комфортно следуем заданному алгоритму. Только на нас надавила жизнь, и мы начинаем думать о Конце, о его неприглядных, страшных формах. Мы обнаруживаем для себя, что существуют вопросы иного порядка — неразрешенные, пугающие, довлеющие над всей нашей никчемной жизнью!.. Об этом невозможно не думать, когда вся жизнь твоя летит в черную бездну!
* * *
Каждый день я выходил на прогулку. Бегал, приседал, дышал и переговаривался с соседями. Меня всегда старались держать вдали от всех. Но иногда получалось пересечься с друзьями. И этим минутам общения, выкрикам, далеким фразам приветствия я был несказанно рад! Как я был бы рад, встретив человека на необитаемом острове.
После прогулки я всегда мыл полы, потому что по ним ходили в грязной обуви тюремные гайдамаки. А на полу я по утрам спал. У меня забирали этот сраный матрас в пять утра, поднимали шконку, а я плевал на всё и падал на пол. Подстилал костюм, под голову клал приговор, сворачивался эмбрионом и досыпал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу