Безмолвие. Изредка — блеяние стада, изредка — человеческие голоса в расселине или у воды, временами — резкий крик пустынной птицы. Слух трепетал от всякого звука этой иссохшей страны. Так же, как трепетал когда-то — и продолжал поныне — от голосов нанимателей.
— Байта, покажи, как делает буйвол, — просил Эшхар. — А как голуби?.. А теперь — какие в Египте голоса…
И она изображала — чтобы не забыл. А может, чтобы не забыть самой. Иногда для себя принималась вспоминать: вот есть такой звук, это — в полдень, издали не поймешь, то ли дикий голубь гнездится, то ли стрекочет сверчок, то ли водяное колесо медленно поскрипывает. Полевой это звук. И она потихоньку подражала этому звуку, поражая Эшхара и сама завороженная, смежив веки и видя перед собой, будто наяву, зеленые поля клевера и бобов, уходящие вдаль, до самой кромки египетского неба.
Что ни ночь, кто-то бежал из стана. Изголодавшись по зелени, по рыбе, по спокойному плеску живой нильской воды. А еще, может, по виду узенькой лодки под высоким парусом, что скользит по воде, заслоняя на мгновение низкий лунный лик. В Египет пробирались незаметно, никому не сказавшись. Однажды послали из стана пятерых к морю, принести соль. К морю они не пошли, а повернули в Египет. Избили рыбаков и сожрали все, что нашли на дне лодок, с потрохами, полусырое — рыбу, устриц, креветок… Потом обнаглели и пошли воровать в ближайших египетских городах. Спустя несколько дней перессорились из-за золота, и, наконец, лишь один из них вернулся. Соли не принес. Только и твердил, что не виноват. Один старец ударил его в сердцах — и убил. С тех пор не посылали за солью.
По ночам было страшно. Об этом никогда не говорили. Великая пустота теснила их друг к другу, укрывшихся волокном молодых пальмовых веток и все еще грезящих, будто фараоново войско идет разыскать их в пустыне; и поныне видели во сне зелень да ил и громадные египетские камни. Многие бы еще вернулись, кабы не страх. Чудилось им, что вся эта пустыня — печальное воплощение самой смерти — вздымается, чтобы раздавить их, спящих. И дрожали — от холода и страха. Солнце каждое утро появлялось как избавитель и чудо. Были ночи, когда им не верилось, что оно появится и спасет.
Чтобы Эшхар не убегал, не носился целыми днями с мальчишками, Байта рассказывала ему. Но его уже было не удержать. До самого вечера он пропадал с Авиэлем, Зэмером и Яхином — братом Иехошуа. Вернувшись, как маленький, довольный зверек, клал голову ей на колени, и — воцарялся в душе у обоих утраченный покой, как будто плоть была мудрее их самих, а также всех вещей и любых дел. Подошел день, когда он сказал, что не верит в такую страну, Египет. И родины праотцев нет. Сказки все это.
С каждым годом нищали. Одежда, что взяли с собой из Египта, все больше ветшала. Кочевали, совершая короткие переходы между редкими источниками да от акации до тамариска, и мысли у них не возникало, что существует какой-то иной смысл их приходу и скитаниям по этой пустыне, как не для нужд скота. Места здесь были слегка всхолмленные, очень сухие, и к этому приспособились. Уже умели пойти и собрать крупицы можжевельниковой манны и знали — как люди, так и скот, — что нельзя прикасаться к одурманивающим растениям. Огонь поддерживали сухим кизяком да финиковыми косточками. Чуть сеяли, чуть снимали, мололи — меру, две… Поодаль, перед всем станом, всегда пылал огромный костер: днем хорошо был виден столб дыма, а ночью — огня. Далеко никто не отходил, и если какой-то пастух, уйдя за гряду холмов, терял этот столб из виду, то впадал в страх, будто невзначай поглядел туда, где нет Бога, и побыстрее возвращался, дабы простилось ему это прегрешение. Бессмысленно текла жизнь. Просто не было это Египтом. Там была каторга, здесь — свобода. Рабство сбросили, а вместо него не пришло ничего. Старики умирали, дети росли.
Спустя какое-то время по лицу старика Ицхара стало заметно, что он тщательно и неотступно о чем-то думает. Наконец, он отправился к шатрам Эфраима и вернулся с одним из тамошних. Сели они и о чем-то калякали вдвоем, пока не вышел Ицхар объявить женщинам, что выдает Байту за парня из колена Эфраимова, Завди его зовут, и выкуп за нее добрый.
* * *
Эшхару было тогда лет двенадцать, ростом он был невелик, худ. Остановившись у входа в шатер старейшин, он долго не дерзал войти. Пока кто-то изнутри не заметил и не подал ему знак. Мрак, стоявший в шатре, был неожидан: семейные шатры всегда были распахнуты, вещи лежали и внутри, и снаружи, а здесь все было прибрано и сложено. Место казалось чужим, тесноватым, как бы случайно занесенным в глубь этого необъятного песчаного простора с приземистыми, густыми зарослями акации, освещенного косо падающим светом. Пол покрывали потертые ковры. Через прорехи между лоскутьями, из которых был сшит шатер, тут и там проникало несколько лучей, напоминающих зубья сломанного гребня; в них плавали пылинки. За этими живыми пылинками Эшхар понемногу разглядел лица нескольких стариков. Они совсем не походили на тех, какими Эшхар знал их вне шатра, словно были чужими. В ближнем углу стоял тот самый, который позвал Эшхара войти. Теперь он стоял отвернувшись и разливал по блюдцам пахту.
Читать дальше
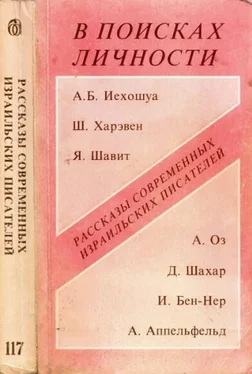
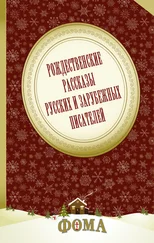
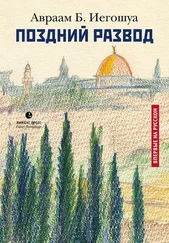





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


