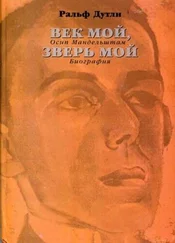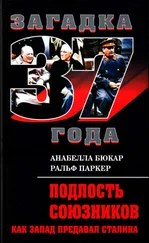Дерштикт золсту верн! Хватит уже!
Данероль с его сверкающим «линкольном», да. Поездки в Ниццу, да. Но только не Мари-Зелин. Все сватовство насмарку из-за его дурацкой застенчивости и неловкости. Он никогда не умел разговаривать с женщинами. Моди завораживал их своим голосом, он ворковал, шептал им на ушко стихи, так что у них мурашки пробегали по спине. Они трепетали, закрывали глаза, и вот уже рука обнимает руку, вначале он трогает их слух, потом их кожу. И это довершает дело. Он прогоняет прочь образ нежно-требовательно воркующего Моди, который еще больше вводит его в смущение. Дожидается, пока они останутся с Мари-Зелин одни в комнате. Долго молчит, ей даже становится не по себе. Наконец первое хриплое слово срывается с его губ.
Мадемуазель…
Да, месье Сутин.
Теперь он обшаривает взглядом ковер, на котором стоит, как будто что-то потерял, монету, карандаш, клочок бумаги. Отчаянно ищет на полу то, чего не терял. Он не смеет поднять глаза и посмотреть на нее. Вот уже и мадемуазель Фор принимается обследовать пол вокруг своих ног, но при всем желании ничего там не обнаруживает. Красота приводит его в смущение, подвергает карам. В дешевых борделях Моди быстро похищал маленьких хихикающих красоток, уводя их за собой в комнату, Сутин же выбирает тех, кто пострашнее и поуродливее, чьи черты лица говорят о раннем алкоголизме и плохом питании, чья кожа рассказывает о жизни, полной невзгод.
Месье Сутин, я вас слушаю, вы что-то хотели?
Мадемуазель Фор, кое-кто… хотел бы… хочет… просить… вашей руки.
И она смеется этим звонким и беззаботным смехом, который убивает его наповал. Смех будто с другой планеты, воздушный нежный смех, который означает одно: жизнь – это очень легкая штука.
Да, и кто же? Три дня назад мне сделал предложение пилот. И я сказала «да», представляете? Когда-нибудь он меня даже возьмет с собой полетать, унесет меня в небо.
Художник хочет провалиться в ковер от стыда. Он выбегает из комнаты. Отвергнутый. Что он может против пилота, даже если теперь он одет не в перепачканный краской комбинезон, а в костюм от Баркли. Стыд остается тем же самым, его не переоденешь в другой костюм. Вскоре после этого пилот разбился, а Сутин рассорился с лучшим знатоком, который когда-либо бросал взгляд на его картины.
Эс брент мир афн харц , хочет он произнести в белом раю. У меня жжет в груди.
И еще один пилот терпит катастрофу. Збо теперь полюбил жить на широкую ногу, с тех пор как Барнс выкупил его сокровища, спрятанные под диваном. Он вполне правдоподобно имитирует финансовое благополучие, бездумно спуская все, что удается получить. Его галерея на улице де Сен открывается в 1926 году, но успех длится едва ли два-три года, потом приходит отрезвление. Наступает 1929 год, биржевой крах, финансовый кризис. Американцы больше не едут, спрос на картины угас. Мистер Аргирол напрасно борется с воспалением американских глаз.
Збо спекулирует без какого-либо успеха на бирже и в марте тридцать второго умирает, одинокий, разоренный, погрязший в долгах, в возрасте сорока трех лет. Его слабое сердце оказалось право. Деньги – это только деньги, существуют затем, чтобы их просаживать, и ничего больше. Богатство – ложь и обман, карточные домики должны рано или поздно рухнуть. Монпарнас – мировой центр расточительства денег и таланта. Его белые щегольские туфли лишились хозяина. Безымянная коллективная могила для нищих. Жизнь – всегда лишь имитация благополучия. Он живет на широкую ногу и сбивается с шага.
Сутин обитает теперь на улочке Пассаж д’Анфер, нужно только пересечь бульвар Распай и сразу окажешься на кладбище Монпарнас. Он боится этого адреса: Адов проезд. Названия делают его суеверным. Какие короткие здесь расстояния, но как бесконечно долог к путь к окончательной операции.
Бычья туша и письмо доктора Бардамю
В великолепном белом одеянии сдержанным шагом и с выражением задумчивости на лице доктор Готт входит в комнату, приближается к постели художника и, почти не глядя на него, сразу начинает говорить:
Кровь – сок совсем особенного свойства…
И потом рассеянно, слегка укоризненно бормочет:
Генрих… Генрих.
Никто толком его не слышит. Иногда голос доктора Готта становился плаксивым, когда он во время своих визитов принимался высокопарно рассказывать художнику о медицинском прогрессе во всем мире. О войне он не говорил никогда. Тем не менее он, казалось, тоскует в своем белом раю. Клиника явно давала ему мало настоящих поводов для радости. Дела здесь, очевидно, шли не совсем так, как ему хотелось бы. Только когда он демонстрировал художнику желудок, резецированный Бильротом, лицо его подернулось улыбкой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу