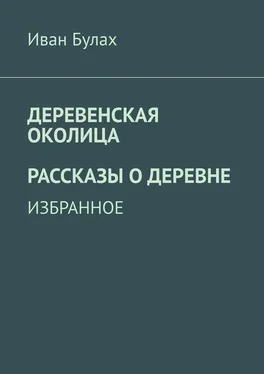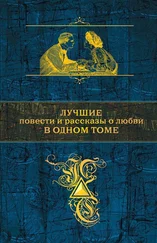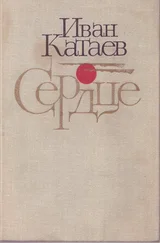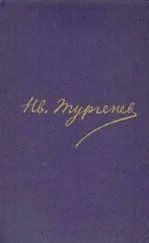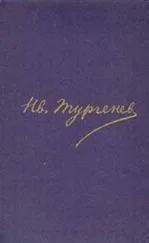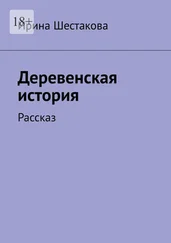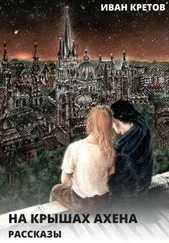— Будете служить не в ДОПе, а в ДПП. Разница в одной букве, но разница большая — это Дивизионный Похоронный Пункт! Кому-то надо и этим заниматься, а работа наша очень нужная.
Как мы это услышали, так у меня в голове муть и пошла, никак в толк не возьму — за что? Должность — врагу не пожелаешь. Стали проситься перевести нас хоть куда, только не в похоронщики, тем более, что в этой команде обычно служили люди пожилые. Но хитрый лейтенант мне мигом укорот сделал.
— Старшина Кожевников, я бы на вашем месте вообще помалкивал, вы идёте по списку религиозных «отказников», да ещё пекарню проср… (потерял). Если по-плохому, то моржете угодить под трибунал. Время сейчас военное, и вам светит штрафбат.
Господи, служить в похоронной команде. А куда денешься?
Кроме нашего командира, лейтенанта Орешникова, были: три военфельдшера, три сапёра и три сержанта (командиры отделений), у которых в подчинении находились: стрелки, ездовые и ещё несколько солдат, а всего 26 человек. За нами были закреплены повозки с лошадьми, три миноискателя и автомобиль ЗИС.
Тут у каждого были свои обязанности. Вначале сапёры с миноискателями проверяли проходы к погибшим, так как везде валялись мины и гранаты. Иногда немцы минировали убитых, особенно офицеров — находили и такие ловушки. Мы вытаскивали убитых из траншей и окопов, а военфельдшеры осматривали убитых, и если при них находились документы, то заполнялась карта особой формы. Потом тела грузились на повозки и везли к местам захоронения. Вроде бы всё просто, но работа страшная.
В первые годы войны захоронение и учёт погибших не проводился. За первые месяцы войны больше всего погибло солдат и офицеров. И в основном это было при отступлении наших войск, и когда разрозненные части с боями прорывались из окружения. В таких условиях погибших иногда и хоронить было некому. В лучшем случае, товарищи погибших стаскивали в воронки от снарядов, это были так называемые, «санитарные захоронения».
У погибших забирали красноармейские книжки, у офицеров — удостоверения личности, а так же партийные и комсомольские документы. Делалось для того, чтобы немецкая разведка не могла ими воспользоваться. А когда началось наше наступление, то уже была возможность вести учёт погибших. Само захоронение было не сложным. Сложнее было определить — кто погиб? Для этого все военнослужащие должны были носить специальные медальоны или жетоны, как удостоверения личности.
Орешников говорил, что это лучший способ опознания, по научному — идентификации. В эти медальоны, как их ещё называли солдаты — «смертники», помещался бумажный вкладыш с данными: фамилия, откуда родом, название Сельсовета и военкомата, где призывался. И ещё — к какой воинской части принадлежит. Медальоны должны были носить все солдаты и офицеры, но многие «смертники» не носили, так как суеверно считали — если выживут, то и без этого медальона, а заполнят — убьют!
Поэтому в капсулах медальонов мы находили иголки, нитки и спички. Из-за нехватки бумаги вкладыш часто шёл на самокрутки или вообще не заполнялся. А ещё медальоны пропускали воду, поэтому часто на вкладышах ничего нельзя было разобрать. То есть, солдат погибал и не оставлял о себе ничего. Поэтому мы иногда находили один читаемый медальон в среднем на 10—15 солдат! Выходило, что только один из 12-ти погибший опознавался, остальные пропавшие без вести. Это ужасная трагедия!
Поэтому наш лейтенант нам вдалбливал в сознание всю важность того, что мы делаем. Каждый найденный медальон, это не только судьба солдата. Если он опознан, то в похоронке сообщалось место захоронения, а родственники, потерявшие на войне кормильца, могли получить пенсию. Неопознанный солдат числился как пропавший без вести. Поэтому его родственники даже не знали — жив солдат или убит, кроме того, им пенсии не полагалось. И каково это было для родных и близких солдата?
А сколько числится в пропавших без вести, погибших при форсировании сотен рек и переправ, когда сверху бомбили с самолётов, а с берега расстреливали солдат из пушек и пулемётов? Мне об этом после войны внучок прочитал стихи нашего поэта и фронтовика Александра Твардовского про «Василия Тёркина».
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно…
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода —
Ни приметы, ни следа.
Представляете? А за каждым солдатом стояла его судьба, судьба родных и малых детей, а мы их закапываем. Редко, но случались и светлые минуты. Когда мы работали в местах, где только прошли бои, то иногда находили среди мёртвых и живых солдат, которые после ранения были в шоке или без сознания, и их не подобрали санитары. Таких мы сразу везли в медсанбат.
Читать дальше