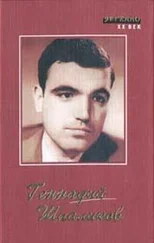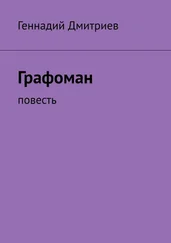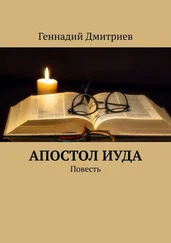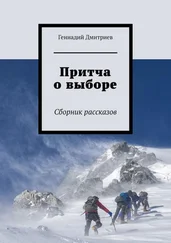— Вернусь, обязательно вернусь.
— Я провожу тебя в аэропорт.
Уже стемнело, кода мы приехали в аэропорт. Воспалённый, простуженный город плакал печальными слезами, лужи отражали жёлтые огни фонарей, рейс задерживали.
— Вот видишь, — сказал я, — и самолёт простужен, он не хочет нас разлучать.
Она смотрела на лужи, на отражение фонарей, и молчала.
— Поезжай домой, кто знает, как надолго задержится рейс. Незачем тебе стоять под этим дождём, ты и так простужена.
Она посмотрела на меня серьёзным, полным боли и печали взглядом, и сказала:
— Ты даже не представляешь себе, как хорошо, когда идёт дождь. Тогда дождя не было. Я помню всё, всё, словно это было вчера.
— Это было давно, в другой жизни.
— Но это было. И ты послал меня на костер. Зачем ты это сделал? Зачем?
— Я не знаю, я не помню ничего из той жизни. Я никогда бы не поверил в это, если бы не картина. Я знаю только одно, что я люблю тебя, и никогда тебя не брошу и не предам.
— Но ты предал. Тогда, в той другой жизни. Ты предал, а я прокляла тебя. Прости, я говорю чушь, ты ни в чём не виноват, ты не можешь отвечать за то, что было в той, другой жизни.
Она снова прижалась ко мне мокрыми щеками.
— Идем в зал, не надо стоять под дождём, — сказал я.
— Нет, не надо в зал. Я не могу, я не хочу видеть людей. Они все смеялись и бросали хворост в огонь. Почему они это делали? Им было весело? Скажи, почему? Разве может быть весело, когда человека вот так, живьём сжигают на костре?
Я молчал, прижимая её к себе, мне нечего было сказать, ведь я ничего не помнил из того, что было в той, иной жизни. А может, ничего и не было? И всё это только бред её больного воображения, просто схожесть образов на картине? Я хотел сказать ей это, но не мог.
— Идём под козырёк, не надо стоять под дождём.
Она согласилась, мы стояли, пока последний автобус не подошёл к остановке.
— Езжай, — сказал я, — это последний, другого не будет. Она посмотрела мне в глаза и тихо сказала:
— Мы встретимся, мы обязательно встретимся. Дай мне телеграмму, когда прилетишь, обещаешь?
— Обещаю. А ты напиши мне, я так долго жду письма, напишешь?
— Напишу.
Она села в автобус, у окна, и помахала мне рукой. Я помахал в ответ, автобус тронулся и увёз её в тёмную осеннюю ночь, я прошёл в зал. Посадку объявили далеко за полночь, и пассажиры, прикрываясь от дождя зонтами, сумками и ладонями, шли по лужам, полным ночных фонарей, к трапу.
В самолёте было тепло и уютно, а на улице всё так же лил дождь, капли его разбивались о фюзеляж, о крылья, они вскрикивали, умирая, и крик этот сливался в сплошной гул. Потом запустили моторы, и не стало слышно ни шума дождя, ни завывания ветра. Самолёт выруливал, мягко покачиваясь на стыках плит, он вырулил на взлётную полосу, моторы взревели, и самолёт, вдавливая в кресла тела пассажиров, начал разбег. Он оторвался от земли, и нырнул в сплошную темноту облаков. Самолёт пробил облачность, набрал высоту, и лёг на курс. Убаюканный теплом и мерным гулом моторов, утомлённый бессонной ночью и событиями дня, я задремал.
Очнулся я от яркого света и жара. Сквозь иллюминатор было видно, как пламя вырывается из левого двигателя, салон заполнял едкий, удушливый дым. Там, внизу, на земле, как и прежде, шёл дождь, вверху, на фоне ясного неба сияли звёзды, а между небом и землей разгоралось пламя костра, последнего костра инквизитора.
Геннадий Дмитриев, Одесса — 2013
— Черт возьми! — вскричал Гопкинс. — Не думаете же вы, что автомобиль обладает сознанием, душой?!
— Да, обладает, — сказал я. — В той мере, в какой мы наделяем его этой частью нашего существа.
Александр Грин. Серый автомобиль
Георгий Иванович был в том возрасте, когда строить планы на будущее уже, наверное, несколько поздновато, хотя и записывать себя в старики было ещё рано. Если считать, что возраст определяется не прожитыми годами, а состоянием души, то многие из нас, считая себя молодыми, страдают гипертонией, радикулитом, склерозом и прочими недугами, называемыми, мягко говоря, возрастными изменениями организма, а, если сказать несколько грубее, то старческими болезнями. Естественно, и у Георгия Ивановича всех этих возрастных изменений имелось предостаточно, но была у него ещё одна неизлечимая болезнь, которая приносит не меньше страданий, чем все остальные, — он был писателем.
Возможно, более точно его следовало бы назвать графоманом, поскольку писатель — это профессия, которая дает некоторые средства к существованию в виде гонораров за опубликованные сочинения, а графомания — это уже болезнь, которая ничего кроме душевных страданий принести не может, но Георгий Иванович графоманом себя не считал. Не будем и мы его называть таковым, хотя страсть к сочинительству не приносила Георгию Ивановичу ничего, кроме творческих мук, переживаний, колебаний состояния души от восторженности, эйфории до глубочайшей депрессии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу