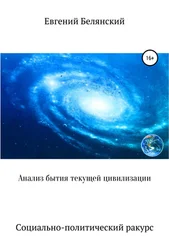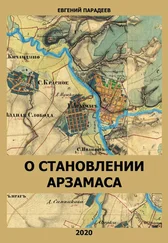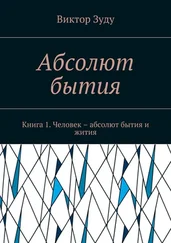Фундаментальный субъект и есть субъект той заброшенности и того одиночества в лишённости, в которых выявляется его субстанция. Это есть «тело» мотивации к стяжанию блага как такового в определении.
Но это значит, что подобное мироощущение имеет для себя универсальную причину. То есть, все интуиции о принципиальной лишённости имеют общее парадигматическое основание, но претерпевают разнообразие только подставные сущие, присваивая себе значимость перманентного разрешения проблемы лишённости.
Если это так, то нет никаких оснований предполагать, что искомая предельная, стоящая за всеми сущими ценность не есть единый универсальный принцип восполнения всякой лишённости. Но в универсуме сущих в перманентном обретении искомого сокровища опознание его тем неопределённее, чем интенсивнее эскалация модуса опознавания в универсальности целеполагания. Ищущий утрачивает все опоры, теряя их в сущих и не восполняя утрату ни в чём ином.
Таким образом, в круг осознания в понятиях всякая сущность тем более имеет основание быть включённой, чем более полагается универсальность сущности в совлечение признаков причастности к миру сущих. И в этом есть момент возвращения к положению до вхождения субъекта в мир. То есть, предчувствие приближения к тому, во что субъект был исходно посвящён, входя в мир в качестве носителя предпосылок для этого по своей природе.
Это вхождение субъекта в мир есть истинное наполнение личным всякого индивидуального осознания, и в этом смысле оно имеет метафизическое содержание.
Но осознать искомые универсальные субстанции надлежит в преодолении мысленной дистанции между этими не вписывающимися в умопостигание и не допускающими полагания в определённость осознания сущностями. В таком акте все возможные в осознании подобные сущности ещё до недостижимой полноты определённости осознаются в едином универсальном, лишённом признаков качественности. То есть, как одно. Для этого есть ещё и то основание, что между осознаваемыми в умопостигании субстанциями отсутствует всякая иерархия. И потому предельность в проявлении их сущностей и позиционирует их как одно. Всё же мыслимые частные их модальности суть всего лишь имена этого одного. Таким образом, не следует признавать, например, что одно из них есть источник другого в смысле безусловного превосходства положения в иерархии, но даже и мыслимый источником является вместе и рождённым от источника.
Это тот Абсолют, который содержит в себе всё возможное к инициированию воплощения сущих, для которых он, действительно, безусловный источник. И он, являясь Абсолютом, не оставляет для сущих полноты меры причастности к себе. Но оставляет только в качестве образа этой причастности. Понимать это нужно так, что в свете присутствия абсолютного сущее опознаётся в принципиальной неполноте онтологического статуса.
Далее надлежит рассмотреть два затруднения. Первое состоит в необходимости выявления доли какого-либо соучастия друг в друге сознающих индивидуумов. А разрешение второго затруднения должно ответить на вопрос об актуальности поиска такого Абсолюта для себя.
Последовательное погружение во всё более глубокое и острое переживание гипостазированной лишённости совлекает с осознания себя включённым в поток жизни в «этом мире» причастность к судьбам сущих мира. Исходный инстинкт посвящённого в то, что не вмещается в мир, но присутствует в человеке как предчувствие и надежда, всё больше обесценивает факт причастности человеческой судьбы в её метафизической значимости судьбам эфемерной определённости сущих мира. Но именно в них содержится потенциал и природа всякого отчуждения. С отчуждением мира сущих утрачивается и всякое отчуждение той природы субъекта, которая положена вне пределов связей между сущими. Эта природа и есть самодостаточность сознания во включённости его в мировой поток. Отчуждаясь от облачения в сущих, сознающее существо остается наедине со своим одиночеством и своею лишённостью. И опознание в этом себя как личного фундаментального субъекта становится доминирующим мотивом его существования. Но в отношении к другим субъектам он претерпевает двоякую трансформацию. Он естественным для себя образом утрачивает тенденцию измерения этого отношения именно в категориях причастности сущим и надъестественно инициирует в себе новое отношение. Отношение, в котором доминантой становится модус одиночества и лишённости (единственный доступный для него теперь). Парадоксальным образом перенося его на все живые существа. Здесь проявляется природа соучастия в одиночестве и оставленности. И перспектива всей возможной полноты осуществления такого соучастия с отчуждением сущих всё больше раскрывается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
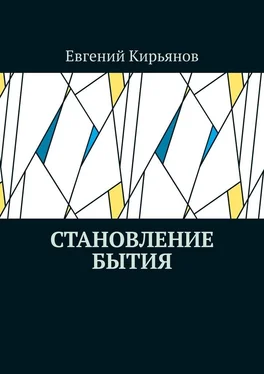
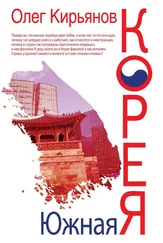

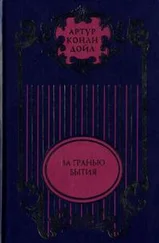

![Евгений Ф - Фактор бытия [СИ]](/books/428371/evgenij-f-faktor-bytiya-si-thumb.webp)