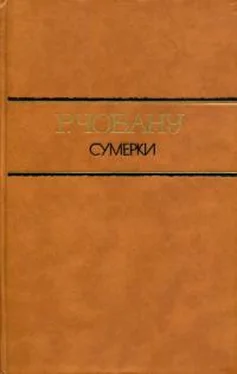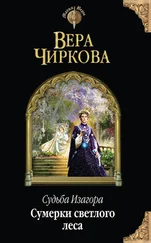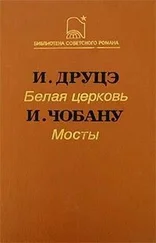Тамара кончила играть, все зааплодировали, а громче всех дед, даже дважды крикнул «Браво, брависсимо!», думаю, бабушка ему это потом припомнила.
Настал черед играть бабушке, она забыла весь свой репертуар и не знала, что исполнить. «Только не вздумай сыграть «Да здравствует король!» — прошипел ей дедушка, когда она проходила мимо. Она сыграла «Ану Лугожану», ей аплодировали, кричали «ура!», потом опять за рояль села Тамара и заиграла что-то плясовое, а молодой офицер, мой соперник, пустился вприсядку прямо по столовой. Каблуки у него так и мелькали, а смотрел он, не отрываясь, на свою Марфу. Потом опять наполнили бокалы и хором произнесли общий тост. Дедушка с бабушкой тоже поднялись и стали прощаться. Мне уходить не хотелось, я заартачился, во мне вдруг с новой силой вспыхнула любовь к Марфе. Я подумал, будь здесь Вася, ему бы тоже девушка понравилась, и я стал кричать: «А где Вася? Пусть сюда придет Вася!» Наступило неловкое молчание. Потом все заговорили разом и, путая румынские и французские слова, объяснили, что Васю за провинность отправили на фронт. Старики мои пришли в ужас, они тут же стали просить майора и генерала отменить наказание. Но захмелевший майор, сидя за столом, сказал веско «Нет!», хлопнул по столу ладонью и нечаянно смахнул со стола тарелку, которая разбилась вдребезги. Все сначала онемели, потом стали смеяться, смеялся и майор, и генерал. Насмеявшись вволю, генерал опять похлопал дедушку по плечу и сказал: «Мне все рассказали. Майор поступил правильно, Васю наказали за дело. Советский солдат, коммунист, не должен нарушать дисциплину».
Вернулись мы к себе подавленные. Особенно огорчился дедушка; добрая душа, он простить себе не мог, что пустяковый случай раздул невесть во что. Но мог ли он предполагать, чем это кончится для Васи».
Женитьба Ливиу Молдовану на Лине Мэргитан считалась делом решенным, хотя вслух об этом никто не говорил. Родители и близкие обменивались многозначительными улыбками и туманными намеками. Север с Олимпией не возражали бы против этого брака не потому, что дружили с Мэргитанами и отец Лины, Панаит Мэргитан, владел обширным поместьем с замком и виноградниками, а потому, что он был генералом. Конечно, до Авереску ему было далеко, но был он единственным генералом в округе, деятельным, уважаемым, и не без заслуг: у него был даже крест Михая Храброго, который он надевал на парадную форму. Панаит Мэргитан не был в восторге от будущего зятя; Ливиу казался ему изнеженным, избалованным, совсем не в его армейском вкусе. Но дружба с семьей Молдовану, а главное, общественное положение и авторитет Севера, делали генерала снисходительнее. Севера с Олимпией будущая невестка тоже не обвораживала — костлявая, долговязая, почти на голову выше жениха, остриженная под мальчика и с желтыми от табака пальцами. Единственный человек, умилявшийся будущей супружеской парой, была генеральша Мэри Мэргитан. Лина ей казалась прехорошенькой, может быть, оттого, что была как две капли воды похожа на нее. Ливиу ей тоже нравился, она относилась к нему с такой теплотой и заботой, какую редко выказывала сдержанная Олимпия.
И только Ливиу и Лина, казалось, не помышляли об этом. Во всяком случае, ни разу не заводили такого разговора. А туманные намеки окружающих их забавляли. Виделись они каждый день, вместе отплясывали на всех балах, даже и на тех, на которых Лине появляться строго-настрого запрещалось. Обычно часов в десять вечера к густым генеральским каштанам бесшумно подкатывала машина с погашенными фарами. Лина выпрыгивала из окна своей комнаты и приземлялась на ухоженный газон. Пока она летела, ее бальное платье раздувалось, как парашют, и белоснежное белье ярко светилось в темноте. Способ возвращения в дом бывал столь же романтичным: Ливиу, прислонившись к стене, служил лестницей, Лина снимала туфли, ставила одну ногу на его сцепленные ладони, другую заносила и ставила ему на плечо и исчезала в темном проеме окна. Вслед ей летели туфли. Генерал так и не проведал об их ночных вылазках, потому что Ливиу и Лина были в приятельских отношениях со всеми газетными репортерами светской хроники. Однажды их чуть не разоблачили. На балу, где собралась весьма разношерстная публика, оказался молоденький газетчик, новичок. Услышав их звучные фамилии на увеселительном вечере колбасников и парикмахеров, он ощутил большой творческий подъем, и Ливиу пришлось приложить немало усилий и, что существенней, значительную часть гонорара за один из немногих своих процессов, чтобы изъять эти звучные фамилии из уже набранной заметки. Но было такое один-единственный раз.
Читать дальше