Я смутно понимаю, что мы с Вэл молчим после того первого разговора сразу по приезде. Но тут вообще никто не разговаривает.
Несколько раз мне кажется, что Алан шевелит пальцами, но я не уверен.
А вечером, когда нам объявляют, что остаться могут «только члены семьи», я говорю маме, что посплю в кресле в комнате ожидания.
Она спит в соседнем кресле.
89. течение времени (III)

Прошло три дня. Я приезжаю утром и вечером.
Я бы остался, будь такая возможность, но мне не разрешают.
Когда я не в больнице, то запираюсь у себя в спальне наедине с оцепенением, моей новой тенью. Часами напролет сплю или набрасываю жутковатые рисунки неудачных прыжков с парашютом, лопнувший зоб и лицо женщины, чье существование сделал невыносимо заурядным развивающийся мир. И я чувствую каждый миг, который утекает сквозь пальцы, будто я сел в автобус с бесконечно длинным маршрутом и пропустил свою остановку, а теперь обречен смотреть, как остальные попадают именно туда, куда хотели, и знать, что мне не бывать среди них. Выход из режима автопилота никогда не означал смерть, по крайней мере для меня, но, может, именно это и случается, когда пропустишь свою остановку. Может, тогда застреваешь в своего рода экзистенциальном чистилище, не здесь и не там, вообще нигде.
По вечерам мама сидит на краю моей кровати и рассказывает истории, прямо как в детстве. Я лежу, пока она говорит, а потом она целует меня в лоб, и тут мне приходится столкнуться с глубиной моей внутренней тьмы, потому что в театральной постановке, разыгранной в стертом уже времени, подсознание показывает мою любящую мать алкоголичкой, которая врезалась в телефонный столб на машине, где сзади сидел маленький Ной. И когда мягкий щелчок двери обозначает мамин уход, я остаюсь один в темноте, чтобы снова об этом думать. Остаюсь, чтобы опять перебирать причины несчастья.
Я бы переселился в палату Алана, будь такая возможность.
Но мне не разрешают.

– Тебе сразу же станет легче, – уверяет мама, но я невольно продолжаю разглядывать ее щеку.
– Не пойду, мам. – И я переворачиваюсь на другой бок, натягиваю чистые белые простыни на голову; в коридоре за дверью слышится приглушенный спор.
Когда я пропустил первые два дня, родители решили, что теперь мне уже пора возвращаться в школу. Пусть говорят что угодно, но мой лучший друг в коме, которую я должен был предотвратить, если бы не напился и не позволил безумцу посадить меня в крысиную клетку на три месяца (или шесть часов, не суть), так что нет: вряд ли я просто так встану, оденусь и начну заново год, который уже наполовину прожил.
Я беру компьютер, забираюсь обратно в постель, включаю текстовый редактор и смотрю на экран. Рукопись открывается на последнем написанном мною тексте: «Моя краткая история, часть двадцать вторая» – про мальчика с собакой в пещере Шове. Дальше ничего нет. Восемнадцать «Кратких историй», тысячи слов исчезли. Будто их и не было.
Наверное, их и правда не было.

Можно ли проткнуть барабанную перепонку пальцем или нужно что-нибудь поострее, вроде карандаша? Можно ли сломать коленную чашечку молотком; за какое время зажигалка прожжет кожу и мышцы и огонь доберется до кости; с какого этажа можно упасть и выжить; какая самая мясистая часть тела, которую можно как следует искалечить, прежде чем человек умрет?
Сегодня я не еду к Алану. Вместо этого я ныряю в самую глубину, в одеяла и подушки, и лежу там с выключенным светом, воображая разные нестандартные способы причинить боль Ротору. Посторонний мог бы сказать: «Всего-то три месяца – наплевать и забыть», но дело не во времени. Дело в поездке в Манхэттенский университет, в «Кротовой норе». Дело в историях, которые рассказали мне мистер Элам и Филип Пэриш, в тысячах слов, написанных мной и теперь исчезнувших. Дело в том, насколько у нас совпадали вкусы с Сарой Лавлок, в ее ангельском голосе, в ее любви к Миле Генри и воплощении всего того, чего я ищу в подруге: она была буквально девушкой моей мечты.
Дело в моем лучшем друге, который может не прийти в себя.
Поступки, мысли, окружение – это и есть жизнь. Так что да, всего-то три месяца, но дело не во времени – дело в жизни.
Читать дальше
![Дэвид Арнольд Очень странные увлечения Ноя Гипнотика [litres] обложка книги](/books/398654/devid-arnold-ochen-strannye-uvlecheniya-noya-gipnoti-cover.webp)





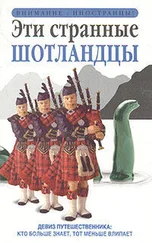
![Бен Гутерсон - Странные дела в отеле «Зимний дом» [litres]](/books/385671/ben-guterson-strannye-dela-v-otele-zimnij-dom-l-thumb.webp)
![Юлия Верба - Одесская сага. Ноев ковчег [litres]](/books/391223/yuliya-verba-odesskaya-saga-noev-kovcheg-litres-thumb.webp)
![Лис Теру - Странные люди [litres]](/books/399980/lis-teru-strannye-lyudi-litres-thumb.webp)


![Дэвид Барнетт - Земля вызывает майора Тома [litres]](/books/418492/devid-barnett-zemlya-vyzyvaet-majora-toma-litres-thumb.webp)
![Дэвид Арнольд - Электрическое королевство [litres]](/books/433639/devid-arnold-elektricheskoe-korolevstvo-litres-thumb.webp)

