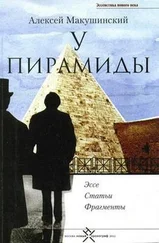Улица Кондорсе (которую в действительности – но что есть действительность? – я прошел за несколько минут, по которой все еще иду на этих страницах, пользуясь волшебными возможностями прозы, ее свободой от времени) – улица, следовательно, Кондорсе есть во многих городах Франции; здесь, в Кламаре, она не случайна – потому что именно здесь, в Кламаре, его, Николя де Кондорсе, математика и философа, одного из тех философов Просвещения, которых, я боюсь, мы слишком мало читаем, – здесь, в Кламаре, в революционном 1794 году, его арестовали в каком-то трактире, куда зашел он, пытаясь бежать из Парижа, преследуемый фуриями якобинского террористического безумия, отсюда же отвели в тюрьму, где через два дня, при до сих пор не выясненных обстоятельствах, он и умер; к Бердяеву, в эпоху наших отечественных революционных безумств, судьба была милостивей.

На этой улице, где, кстати (с апреля 1932-го по не знаю какой месяц 1934-го; в доме, это знаю, № 101, теперь, кажется, больше не существующем) жила Марина Цветаева со своим несчастным семейством, где к ней приходили судебные приставы описывать ее и Сергея Эфрона жалкое эмигрантское имущество за не уплаченные вовремя налоги; где в 1921 году недолго жил Лев Шестов (прежде чем переехать в пятнадцатый округ Парижа, теперь шикарный, тогда, похоже, не очень), – на этой, вновь уходящей вверх улице Кондорсе обнаружился, довольно скоро, носящий то же имя спортивный зал (Gymnase Condorcet), очень белый и очень плоский, без всяких причуд и украшений, если не считать таковыми коллекцию мусорных, опять-таки, баков, очень черных на его фоне, выставленных вдоль стен, на радость прохожим. Велик был соблазн подумать, что – вот он, рациональный, скучный, плоский мир Просвещения, от которого так далеко ушли наши религиозные философы, наследники, скорей, романтизма. А я часто чувствую себя человеком Просвещения, уж признаюсь читателю. Нам Просвещенье не пристало… Оно нам не только не пристало, но его у нас почти что и не было. В России, писал Бердяев, Просвещения не было, зато была замечательная критика Просвещения. С этим трудно не согласиться; но само Просвещение мне дороже, чем его критика, сколь бы замечательной она ни была; даже, с годами, оно становится мне все дороже. Просвещение, процитирую снова Канта (и пусть читатель простит мне этот повтор избитой цитаты – впрочем, такая ли уж она в России избитая? это в Германии ее учат в школе; и правильно делают…) – Просвещение есть выход человека из состояния неправомочности, в котором он сам же и виноват. Выход, следовательно, из подчинения авторитетам, из детского рабства у чужих мнений, у обычаев, у власть предержащих, да у кого и чего угодно, – в само-стоятельность, в «самостояние человека, залог величия его» (вот цитата, в России и вправду избитая, но удержаться от нее никак не могу), в само-деятельность и самодвижение, в свободу собственных решений и ответственность перед самим же собой. Конечно, Бердяев вовсе не был противником так понятого Просвещения; менее всего предлагал он возврат к каким бы то ни было авторитетам, к какой бы то ни было авторитарности (Бердяев тем и прекрасен, что всегда, последовательно и решительно антиавторитарен). Но, ясное дело, с французским Просвещением XVIII столетия (более или менее материалистическим, более или менее атеистическим) отношения у него были сложные. Наследником Просвещения был для него (не для него одного) тот (скорее более, чем менее материалистический, скорее более, чем менее атеистический) позитивизм, от которого он уходил. Они все уходили от этого позитивизма, материализма и атеизма; все это великое поколение, родившееся, очень приблизительно, между 1870 и 1890 годом; и русские религиозные, и французские католические мыслители, и даже мыслители не очень религиозные, вовсе не католические, и писатели, и поэты, и символисты, и преодолевшие символизм. Это был мир отцов, с которым они порывали. Политически все они начинали, как более или менее социалисты, более или менее «левые»; прощаясь с позитивизмом, прощались и с революцией. На самом деле, убеждения отцов, с которыми они расставались, вовсе не были тем «научным мировоззрением», за которое отцы выдавали их; эта была тоже вера – вера в прогресс, естественные науки, базаровских лягушек, революцию, социализм, братство трудящихся. В этой вере сыновья разуверились. Разуверившись, поняли, что это именно вера, описали ее как веру, как эрзац-религию (за что мы им до сих пор благодарны). Все это – и позитивизм, и материализм, и даже базаровские лягушки – не давало им того всеобъемлющего смысла (Смысла), которого они жаждали, той истины (Истины), по которой они тосковали. Потому они уходили в совсем другую, для поколения их отцов невообразимую и, в сущности, скандальную сторону, сперва к «идеализму», потом и к религии.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)