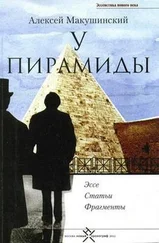В поздней ницшевской книге «Сумерки идолов», одной из его лучших (хотя ничто, на мой взгляд и вкус, не сравнится с «Веселой наукой») есть короткий отрывок, озаглавленный «Как „истинный мир” наконец стал басней», всего-то одна страничка, которую наизусть бы следовало учить взыскующим истины юношам (шучу, шучу…), но страничка, в самом деле, великолепная, рассказывающая историю этого самого «истинного мира», его возникновения, развития, иссякания, исчезновения, в шести кратких пунктах, стадиях и этапах: от Платона через христианство («платонизм для масс», по знаменитой ницшевской формуле) к Канту (у которого истинный мир уже недостижим, недоказуем, но является всего лишь утешением, долгом, императивом; идея, не могу уж не процитировать, становится «бледной, северной, кёнигсбергской»: старое солнце, «сквозь пелену тумана и скепсиса»), и дальше к «серому утру, петушьему крику позитивизма», наконец: к «ясному дню, возвращению bon sens и веселости», упразднению самой идеи «истинного мира», ни на что уже больше не нужной, ни к чему не обязывающей, бесполезной, излишней и, следовательно, опровергнутой. Замечательно это «следовательно», подчеркнутое ироническим автором. Еще замечательнее пункт шестой и последний. «Мы упразднили истинный мир – какой же мир остался? Быть может, кажущийся? Но нет! Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся! (Полдень; мгновение, когда тень так коротка; конец заблуждения, сопровождавшего нас так долго; апогей человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA.)» О Заратустре сейчас и здесь говорить не будем – слишком далеко увел бы он нас от парижских предместий (в свои голые, гордые горы). Ограничимся важнейшим высказыванием. Вместе с истинным миром мы упразднили и кажущийся (Mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft!). Что это значит? Это значит: мы упразднили различие. Этот мир неправильный, только если где-то есть правильный тот. Этот мир неподлинный, неистинный, ненастоящий, только если где-то есть подлинный, истинный, настоящий мир. Этот мир падший, если ему есть откуда падать. А на самом деле, мир не подлинный и не не-подлинный, не падший и не непадший, не истинный и не не-истинный. Он просто есть, такой, какой есть; вот он; вот эта улица; эта стена, эта кладка.
И вот чем в молодости поразил меня дзен-буддизм. В буддизме (во всяком буддизме, не только в дзене) тоже есть, конечно, различие между тем миром и этим, между нирваной и сансарой. Переворот наступает в тот момент, когда (в строгом смысле, еще до дзена, но уже в буддизме Махаяны, одним из вариантов которого и является дзен) нирвана и сансара парадоксальным образом приравниваются друг к другу. «Пустота есть форма, форма есть пустота», говорится в «Сутре сердца», или «Праджняпарамите-хридая-сутре», одной из важнейших и наверняка знаменитейшей из сутр Махаяны. Я писал об этом в «Остановленном мире», еще не законченном в тот день (29 марта 2017 года), когда я впервые шел здесь, по улице Кондорсе (с тех пор опубликованном и почти никем, кажется, не прочитанном; заговор молчания продолжается; да и кому в России нужны теперь эти сложные, тонкие вещи? нужна громогласно-скандальная пошлость, или псевдоинтеллектуальная показуха, или бравые банальности, а на нашей фабрике не производят ни того, ни другого, ни третьего… впрочем, это в скобках; закрываю их). Пустота есть форма, и форма есть пустота, нирвана есть сансара, и сансара есть нирвана, тот мир и есть этот мир, этот мир и есть тот. Что это значит – не вообще значит, но что это для меня значит? для меня, экзистирующего, конкретного человека? Этот мир уже тот, здесь уже там – только мы этого обычно не видим. Мы не видим этого, потому что наш взор затуманен заботой, тревогой, наше сознание – сумятицею и смутой случайных, докучливых мыслей, которых и мыслями-то назвать нельзя, не по чину им будет – не мыслей, но – обрывков, ошметков мыслей; отзвуком чьих-то слов, услышанных накануне; наших собственных слов, обращенных к кому-то… Этот мир уже совершенен в своей этости, такой, каков он есть, в своей таковости . Мы не видим красоты мира, потому что отчуждены от себя, значит и от него. Но мы в силах к себе и к нему возвратиться. Я возвращаюсь к себе; я обретаю свое «у себя»; я вижу мир в его бытийственной полноте (или небытийственной пустоте; в данном случае это совершенно все равно). Я пишу и думаю об этом всю свою жизнь. И это естественно (думаю я); нам всем дано помыслить за жизнь всего несколько, действительно важных, по крайней мере – для нас самих важных, мыслей; может быть, две; может быть, три; бывает, что и одну. Потому еще раз (еще и еще раз): моя жизнь раскачивается между отчуждением от себя и возвращением к себе, осознанием себя. Это только полюса, абстрактные крайние точки, которых в действительности никогда я не достигаю. Чем ближе к идеальному полюсу самосознания, тем (таков мой опыт; мой «духовный опыт», говоря по-бердяевски; мой «экзистенциальный опыт», говоря по-каковски угодно), тем совершеннее (в своей ни с чем не сравнимой таковости, своей абсолютной этости) мне является мир (стены и облака); есть (как я писал в своей первой книге; вечность назад) блаженные минуты, когда мы видим настоящее так, как видим обычно лишь прошлое, с той же отстраненностью, с тем же вниманием, как будто отсутствуя, но, может быть, именно потому присутствуя в нем. Этому (как ни странно) можно (и должно) учиться. Я всю жизнь учусь этому, не могу сказать, что очень успешно. Я учился этому, среди прочего, в дзен-буддистских монастырях, в оглушительной тишине и «громоподобном молчании» (которое не всегда, конечно, у меня получалось). Если можно учиться этому, то чему еще стоит учиться? А между тем такое учение уводит от философии; от слов и даже от мыслей. Дело не в словах и даже не в мыслях; дело в том, что за ними; и дело в изменении себя самого, в преображении жизни (для кого-то, кто ушел по этому пути далеко, даже и в «просветлении»). Император Адриан в обожаемом мною в молодости (да и теперь) романе Маргерит Юрсенар говорит, что его интересовала не философия свободы (ее адепты вызывали у него скуку), но техника свободы; он искал тот шарнир, где наша воля сочленяется с судьбой и дисциплина содействует природе, вместо того чтобы ее сдерживать… Эта фраза тоже уводила меня от философии, значит, и от Бердяева. Не сама эта фраза, но это отношение к себе и к миру (мы отзываемся почти всегда лишь на то, что нам отвечает, что нас подтверждает). Наступил в моей жизни период не-философский. Поэзия (в широком смысле немецкой Dichtung; не важно, стихи или проза) казалась мне такой же противоположностью словам, как и дзенское оглушительное молчание; скорее уж она казалась мне родственной этому молчанию, вырастающей из этого молчания. Слова – о чем-то; а поэзия – само что-то. Впрочем, Бердяев утверждал то же самое о философии и был, наверное, прав. Просто я этого долгое время не видел. Мне казалось (еще раз), что разговоры о свободе это только разговоры, а нужна сама свобода, сама вещь, само дело… Вот только теперь, еще не под занавес, но уже в виду занавеса, оказалось все-таки важным и нужным сформулировать, высказать какие-то главные мысли, сопровождавшие меня всю мою жизнь, со всей доступной мне честностью, ясностью, прямотой, простотой.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)