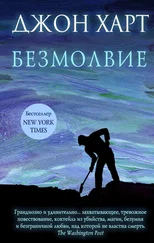— Ты хорошо помогал мне сегодня, — говорит он.
Я смотрю на деньги, на сотенные бумажки, и, так как дядя складывает их одну за другой, мне удается их сосчитать. Четырнадцать сотенных бумажек. Дядя замечает, что я смотрю на деньги, и улыбается.
— Вот что такое коммерция, — говорит он. — Один день терпишь сплошной убыток, как будто сам черт подставляет тебе подножку, а в другой раз тебе здорово везет. Но ты очень хорошо помогал мне сегодня.
— Да? — спрашиваю я.
— Да, очень хорошо помогал, спасибо тебе.
И он тщательно прячет все сотенные бумажки, одну за другой.
ПЛЕМЯННИК МАТА ХАРИ
(Перевод С. Белокриницкой)
Часто около полуночи мой первый сон нарушало громкое пение, и я, еще в полудреме, прислушивался к голосу, который был мне знаком лучше всякого другого, потому что я слышал его каждое воскресенье по часу два раза в день, хоть и с перерывами на пение псалмов (впрочем, он и тут пел громче всех); а во время проповеди этот голос звучал во всех возможных регистрах, то понижаясь до шепота, то срываясь на крик, то дрожа от слез, то громоподобно сотрясая своды, в нем слышалась то язвительная ирония, то смех, и каждую неделю я снова и снова внимал ему, затаив дыхание от восторга. Обладатель этого голоса возвышался, подобно башне, над лежащей перед ним золотой Библией, прикрытый с флангов десятью заповедями господними и двенадцатью членами символа веры, которые золотыми буквами были начертаны на стене Южной церкви по обе стороны от кафедры проповедника. Мой отец часто повторял, что он, как Савл, «от плеч своих выше всего народа» и голос его подобен органу. Еще до того, как его пригласили пастором в наш приход, он неоднократно проповедовал в Южной церкви. Память о его первом визите к нам молва сохранила на много месяцев. Однажды солнечным летним утром он явился на гоночном велосипеде, а его облачение в пакете из оберточной бумаги было веревочкой привязано к рулю. На нем была расстегнутая спортивная рубашка и шорты, а потом он просто-напросто накинул священническое облачение поверх этого наряда. Появившись в таком виде перед старейшинами церковного совета и благотворителями, он в ту же минуту восстановил их всех против себя, потому что ездить на велосипеде в воскресенье тогда еще считалось грехом для ортодоксального реформата, а уж ездить на гоночном велосипеде так легко одетым — и подавно. Церковный совет, очевидно, даже подумывал, не запретить ли ему доступ к кафедре, но он большими шагами вошел в комнату, где они заседали, в мгновение ока надел свое облачение и, прежде чем они успели хоть что-то возразить, взял слово и уже не отдал его никому. Когда он проповедовал второй раз, на площади перед церковью его дожидалась огромная толпа. Каждому хотелось увидеть, как он подъедет на гоночном велосипеде, одетый в спортивном стиле, и люди не были разочарованы, потому что, несмотря на дождь, он появился в четверть десятого точно в таком же виде, как и в прошлый раз, а когда он прислонил велосипед к церковной стене, в толпе раздались восторженные клики.
Но через два года после того первого памятного воскресенья старейшины и благотворители все же пригласили его к нам пастором, хотя у него и тогда были сильные противники — впрочем, впоследствии они добились-таки его падения, — пригласили только потому, что проповеди его были воистину незабываемы. Ничто не могло сравниться с ними: он описывал преисподнюю так, что прихожане выходили из церкви в ожогах. Когда он говорил о небесах, ты видел людей, окружающих престол господень, а домой возвращался по улицам, мощенным золотом. Я думаю, что если бы я услышал его теперь снова, то в мгновение ока опять обратился бы в христианскую веру. Во всяком случае, мое безбожие не продержалось бы и получаса.
Свое недолгое пребывание в должности нашего пастора он начал с облав в пивных. Каждый вечер, изгнав из пивных пьяных прихожан, он по дороге домой проходил мимо моего окна, во все горло распевая псалом. Таким образом он постоянно будил меня, как и в тот вечер, с описания которого начался этот рассказ. Но в тот вечер он пел еще громче обычного, даже значительно громче, и, кроме того, пел он не псалом. Слов я не мог разобрать; лишь позднее я понял, что именно он пел. Звук заполнял всю тихую, узкую улочку, на которой мы жили. Это иностранный язык, подумал я и прислушался получше, сон как рукой сняло.
— Немецкий, — прошептал я тихо, но гордо: я был очень доволен, что узнал язык.
Читать дальше






![Роб Харт - Склад = The Warehouse [litres]](/books/396684/rob-hart-sklad-the-warehouse-litres-thumb.webp)