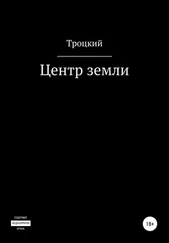— Логистика — не моя сильная сторона. Лучше всего мне удавалось обнаруживать слежку. Паранойя — вот где я блистал.
— Мы можем проделать весь путь на машине, — объясняет она. — До самого парома. Останавливать машину им нет никакого резона, если только тебе удастся не выглядеть таким запуганным, как сейчас. Париж — Неаполь, из одной страны Евросоюза в другую. Если чуть-чуть повезет, можно даже не замедлять ход на границе, чтобы им там помахать. Думаю, уложимся в двенадцать часов — если больше, то ненамного.
— Как от Нью-Йорка до Чикаго?
— Как тебе угодно. Так или иначе, chi non fa non sbaglia.
— Что это значит?
— Не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Не очень-то это успокаивает, если иметь в виду последствия. Нет у тебя чего-нибудь получше в запасе?
— Vedi Napoli е poi muori, — говорит она. — Погляди на Неаполь, и можешь умирать.
— Ты обещал приехать! Говорил, что будешь рядом.
— Ну мама, ну пожалуйста.
— Я умираю, а тебя нет.
— Сложности, мама. Задержки. Потерпи, я очень стараюсь все ускорить.
— Ты это повторяешь, но не едешь, а дни идут. Врачи. Прогноз. Мне недолго осталось. А сейчас взял и разбудил меня, больную, посреди ночи.
Z молчит, ждет, и что-то он уже не уверен, уже не знает наверняка.
— Мама, ты правда умираешь? У тебя действительно такой плохой диагноз?
— Кто будет врать о таком? Я что, чудовище? — Она начинает плакать. — Я говорю родному сыну, что умираю, а он не едет.
— Я стараюсь, мама. Но у меня сложности, ты не представляешь, какие.
— Так скажи мне.
Z не говорит ей. Ни слова не произносит. Не сообщает ни про номер отеля, где он стоит с трубкой в руке, ни про машину, припаркованную снаружи, ни про женщину, в которую он втрескался, нетерпеливо ожидающую у двери.
Он делает, глядя на официантку, виновато-унылое лицо и поднимает указательный палец: всего минута еще нужна, минуту еще поговорить по телефону отеля.
Пусть преследователи засекут разговор. Пусть узнают, откуда он звонит. Когда они явятся, его уже тут не будет.
— Алло! Ты меня слышишь? — говорит его мать.
— Слышу, мама. Я все делаю, чтобы поскорей приехать. Ты просто не знаешь.
— Что я знаю — это что моего единственного ребенка со мной нет. В такое время! Я говорила твоему отцу, нам надо было завести второго. Тогда, в семидесятые, у всех было больше одного. Я ему говорила, когда здоровая была и могла родить еще. Вдруг первый гнилой окажется?
— Мама, успокойся, пожалуйста, я стараюсь изо всех сил.
— Твоих стараний хватит на то, чтобы явиться к похоронам. Твоих стараний хватит на то, чтобы мамины посиневшие губы встретили тебя холодным поцелуем!
— Что ты хочешь сказать? Ты действительно больна?
— Еще бы! У меня рак. Я умираю, умираю, умираю! А ты со своими секретами… Что ты за сын такой, кого я воспитала?
Z пытается оправдаться — но мать не дает:
— Не надо, — говорит она. — Избавь меня. Я сама знаю. Вышло, как я отцу твоему говорила. Гнилой, тухлое яйцо.
Официантка ведет машину, Z сидит на пассажирском месте в темных очках (часть скудного реквизита, который он побросал в сумку). Z не спускает глаз с бокового зеркальца и, как может, пытается выглядеть расслабленным, прекрасно понимая при этом, что всякий, кто посмотрит со стороны, увидит напряженного, несчастного субъекта, у которого что-то скверное на уме. Z не в силах отогнать мысли о тягостном разговоре с умирающей или не умирающей матерью.
Это ведь она не раз его предостерегала: «Никогда ничего не кради. А если все-таки украдешь, не попадайся. Ты как убийца выглядишь, когда чувствуешь себя виноватым. Даже если ты ничего не сделал, тебя повесят за такое лицо».
Он хочет поделиться этим воспоминанием с официанткой, но ему как-то стыдно, и он говорит ей о другом:
— Когда нас учили контрнаблюдению, у нас была великолепная инструкторша, которая постоянно, как бы хорошо мы ни справлялись, была нами недовольна. Она всегда говорила: «Когда обучаешь евреев шпионажу, самое трудное — это добиться, чтобы вид у них был не такой виноватый. Менее нервный народ мог бы и впрямь, как воображают себе антисемиты, овладеть миром».
Они едут себе по шоссе без малейших помех. Погода прекрасная, стекла в машине опущены, и после двух часов езды Z удается перестать подскакивать при каждом гудке или звуке сирены, перестать сжиматься при виде машины, сворачивающей в их ряд, и он начинает хотя бы внешне напоминать человека, который успокаивается.
Они беспрерывно слушают радио, подпевают классическим американским песням восьмидесятых и таким французским хитам, как «Ella, elle l’а».
Читать дальше






![Натан Энгландер - Ради усмирения страстей [Литрес]](/books/396613/natan-englander-radi-usmireniya-strastej-litres-thumb.webp)
![Натан Энгландер - Министерство по особым делам [Литрес]](/books/396614/natan-englander-ministerstvo-po-osobym-delam-litr-thumb.webp)
![Натан Энгландер - Ужин в центре земли [Литрес]](/books/396615/natan-englander-uzhin-v-centre-zemli-litres-thumb.webp)