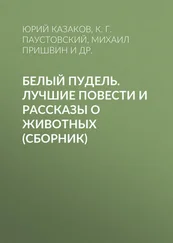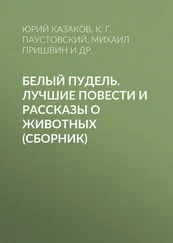Расстроенный Владик заперся с книжкой в отхожем месте. К нему в дверь барабанила мать — она всегда следила за тем, сколько времени сын проводит в туалете, боясь, что он будет предаваться там «нехорошим вещам». «Не выношу детский онанизм!» — злобно сказала она прибежавшей на стуки сестре. Тут-то и произошёл скандал. Анна Ивановна, дрожа от волнения, потащила её в комнату и зашептала со слезами на глазах: «Нельзя унижать, нельзя давить, нельзя уничтожать, нельзя корёжить... Человек, который смеётся... Посадили ребёнка в причудливой формы кувшин и растят несчастного уродца!» Что ещё говорила Анна Ивановна — неизвестно, потому что её слова потонули в возмущённом вопле сестры.
Через пару дней тётя Ася совершенно успокоилась. Она тешила своё тщеславие, предвкушая, как расскажет знакомым, что летом её сына воспитывал мусью: Владик не отходил ни на шаг от Пети и Семёна Ивановича, который с утра до вечера с педагогическим пылом Понократа развлекал детей. Они точили ножи, строгали палки, косили траву, прыгали через канавы, лазали по деревьям, рассматривали лишайники, слушали птиц, ловили рыбу. Когда тётя Ася попыталась загнать Владика в дом для урока музыки, Семён Иванович довольно резко ей возразил. Он сказал, что мальчики заняты: они чертили план усадьбы. Тётя Ася заговорила про музыкальное будущее Владика в Швейцарии. Семён Иванович сказал, что у Влади живой ум естествоиспытателя, что он не рвётся музицировать, что он не создан для скрипки, и ей, пожалуй, не стоит «péter plus haut que son cul». Хомякова попросила перевести это выражение. Француз заглянул в компьютерный словарь, потом встал в почтительную позу и сказал: «Мадам, не надо старайтесь пёрнуть више ваша задница». Возмущённая Хомякова залепетала: «Да как вы можете так со мной разговаривать! Я — интеллигентная женщина!» — «А я — барин, Симон Воронин, хозяин этот шато!» — раздражённо сказал француз. «Барин» посоветовал обомлевшей тёте Асе развеяться — погулять, почитать или заняться полезным делом, например, приготовить обед. Со смиренным видом Хомякова пошла в свою комнату будить мужа. Он лежал на кровати и мирно сопел, на его вздымающемся брюхе покоился молитвослов. Она растолкала его и злобно прошипела: «Хватит дрыхнуть! Нужно почистить картошку!», а потом прошептала с отчаянием: «У неё всё будет лучше, чем у меня!» Дядя Юра захлопал глазами, подхватился и побежал на кухню.
Анна Ивановна отправила француза в местную командировку — добывать старые фотографии. По установленным ею правилам вторгаться можно было только в те заброшенные избы, где крыша начинала обваливаться, — это означало, что дому скоро придёт конец. Заходить в дома позволялось лишь Семёну Ивановичу, мальчики ждали снаружи — прогнившие балки и половицы могли рухнуть в любую минуту. Почти в каждом доме археолога встречали скромные свидетели старого быта: покрытые слоем грязи графины, рюмки прессованного стекла, чашки и чайники в горошек, осклизлые комья кружев, старушечьи очки, пожелтевшие газеты, бумажные иконки, покалеченная мебель деревенской работы. Обычно фотографии валялись прямо на полу — чёрно-белые и выразительные. Семёна Ивановича удивляло, что на карточках пятидесятых годов советские граждане выглядели так же, как люди на снимках, сделанных в послевоенной Италии или Франции. Подростки с вопрошающими взглядами катились на одинаковых велосипедах в одинаковых кепках, коротких брючках и пальто. Их отцы с худыми лицами стояли в одинаковых шляпах и пиджаках. Одинаково причёсанные матери одинаково улыбались и были похожи на кинозвёзд. Старухи корсиканских и новгородских деревень носили платки, кофты и прямые чёрные юбки, пошитые, видимо, на одной фабрике.
Почти в каждом заброшенном доме успели похозяйничать бомжи. В некоторых избах не было пола и мебели — ими топили печки. Там всё было загажено, царил нищий беспорядок, на который с грустью взирал Боженька из облезлого и чёрного красного угла. Семён Иванович был очень брезгливым. Он расшвыривал ногами вонючие тряпки и аккуратно собирал в мешок слипшиеся карточки. Только любовь к Петиной маме могла подвигнуть его на такую грязную работу.
И только любовь к Петиной маме смиряла Остапа, который мечтал «обломать рога наглому французу». Не раз во сне он бежал за ним по пыльным улицам Кулотино, загонял на поленницы и заставлял униженно просить прощения за вторжение в замок. Когда Семён Иванович был дома, Остап с мрачным видом бродил в лесочке, выросшем на месте воронинского парка. Как только враг отлучался куда-нибудь с мальчиками или шёл спать к себе на чердак, Остап подбирался к флигелю и тихо ждал, когда из окна протянется к нему лилейная рука с бубликом и нежный голос ласково попросит отойти, «чтобы не пахло».
Читать дальше
![София Синицкая Повести и рассказы [Авторский сборник] обложка книги](/books/397363/sofiya-sinickaya-povesti-i-rasskazy-avtorskij-sborn-cover.webp)

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)



![Александр Абрамов - Всадники ниоткуда. Повести, рассказы [Авторский сборник]](/books/419741/aleksandr-abramov-vsadniki-niotkuda-povesti-rass-thumb.webp)