Хотелось бы ещё добавить, что я нисколько не обольщаюсь местом и традициями действительно свободных художеств в той русской жизни, которую мне суждено таскать у себя за спиной, куда бы я ни попал. Я необыкновенно дорожу и, чего там – горжусь той профессий рассказчика , которую можно не связывать с разными, так сказать, официальными видами «творческой деятельности», чьи отношения с властью (я имею в виду не только власть советского государства, а вообще любую систему порочных отношений между людьми) сделали их характер и их место в человеческом общежитии очень сомнительными – во всяком случае, на мой взгляд. Я начал работу над «Путешествием нигилиста», не имея никакого представления о том, как это должно выглядеть. Потом стали появляться разрозненные записи, напоминающие собою домашний или путевой журнал, самодельные карты, разные там нехитрые поделки, которые легко спрятать, и возникающие отсюда в воздухе какие-то рoманы, имеющие привилегию быть прежде всего устными. Нечто среднее между походным архивом и карманной выставкой в духе Петрелли. Я решил, что оригинальный аромат (а значит и смысл) моей работы можно сохранить, если оставить всё это почти так, как есть, и сложить в коробку. Вероятно, следует изготовить некоторое количество таких коробок, чтобы это было вроде книги. Я при этом думал о традиции, которая установилась в искусстве последних лет тридцати и восходит, пожалуй, к «Зелёной коробке» Дюшана; на меня всегда оказывали замечательное впечатление такие коробки с материалами отдельных или коллективных работ, иногда даже целые антологии и групповые ретроспективы, например – разные издания Флюксуса или папки Кристиана Болтанского; по ним, более того, можно составить впечатление по сути дела самих работ, о чём нормальные издания оставляют, как правило, только догадываться. (Я даже убеждён, что непреодолимое желание печататься, как все , помешало русской «неофициальной культуре» шестидесятых – восьмидесятых годов, – а точнее сказать, тому её передовому отряду, который Владимир Эрль называет неофициальным неофициальным искусством , – перейти в следующее десятилетие в качестве реальности, а не сомнительного мифа; хотя тут тоже бывали исключения.) Но с другой стороны. Когда я принялся раскладывать свои самодельные карты, когда я стал проводить целые дни, выдумывая про себя с их помощью разного рода рoманы , и когда я ломал голову, как мне лучше вырезать окошко для съёмок (не говоря уже о снисходительных взглядах моих знакомых, которым мне приходилось рассказывать об этих занятиях), – я всё время сравнивал этот труд с очень похожими на него видами лагерного или солдатского фольклора, а может быть, и с трудовой терапией , которую я проходил, когда оказывался пациентом той или другой психиатрической больницы. Вероятно, если сравнивать любимое мною искусство с работой, скажем, лагерного романиста , развлекающего блатарей рассказами, или художника , занимающегося рисованием карт и татуировок, то это ведёт к интересным философским выводам и говорит о жизни как раз то, что следует сказать. Во всяком случае, это сравнение стало принципиально важным, можно сказать, моральным стержнем моей работы. Это и гордость за собственную профессию, которая может и обязана оставаться свободной даже в такой стране, откуда мне пришлось произойти, и возможность всякий раз вспоминать про себя и напоминать другим о тех людях, иногда не оставивших после себя ничего, – ни веских имён, ни «произведений», – чьё одиночество ужасает, а чистота жизни оставляет завидовать.
Мне сразу вспоминается другой знаменитый отрывок, где он в таком же торжественном и загадочном стиле учит молодого художника вглядываться в пятна и в потёки на стенах, чтобы различать в этих случайных формах грандиозные и ещё не виданные пейзажи и сцены будущих картин. Макс Эрнст вывел из этого отрывка целую идеологию своего сюрреалистического искусства фроттажа и декалькомании, хотя подобные рассуждения производят немного неприятное впечатление, как будто натянутая реклама патентованной новинки (я имею в виду именно рассуждения, а не само искусство одного из моих любимых художников).
Произведения обоих мастеров оказали, как известно, большое воздействие на мысли Декарта и Мерсения, которые пользовались ими как иллюстрациями. В своём учёном исследовании об эпохе манифестов розенкрейцеров «The Rosicrucian Enlightenment» Фр. Йейтс доказывает, что дворцовые и садовые чудеса в Гейдельберге послужили источником вдохновения и описаний чудесных царских покоев для одного из первых сочинений автора этих манифестов – Андреэ: «Химическая свадьба Кристиана Розенкрейца».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
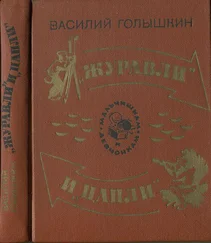

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

