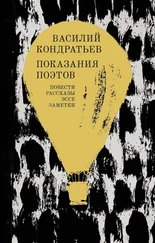Прежде эта любовь заставляла Воинова отдавать предпочтение вещам, уцелевшим от прекрасной эпохи начала века, так что такая работа производила впечатление уголка краеведческого музея, посвящённого одной из катастроф, с идеей коих так неразрывно связан большой стиль модерн: извержение на Мартинике, гибель «Титаника» или скорее уж крушение Российской империи. За последние десять лет ностальгическая нота полностью распространилась и на вещи, оставшиеся от советской жизни: теперь ими безо всякого сарказма украшает свою жизнь четвёртое или уже даже пятое поколение проживающей в Петербурге породы собирателей. Впрочем, не вполне собирателей. Я имею в виду не коллекционеров, а людей, чьи занятия с вещами имеют характер средний между художественной самодеятельностью и бытовой патологией.
Эти занятия имеют долгую историю, совпадающую с культурной историей XX века, сквозь призму которой её можно, впрочем, сопоставлять и с другими эпохами, отличавшимися увлечением аллегорией или любовью к натуральным и искусственным курьёзам . Однако ни в одну другую эпоху интерес к вещи не происходил из повседневной городской жизни и не становился художественным занятием: скорее не «творчеством», а (как это придумали называть в современном искусстве) практикой .
Выражение практика отнюдь не случайно ассоциируется с психоанализом. Став частью изобразительного искусства XX века, эта практика имеет литературные истоки. Ленинградские собиратели и «систематизаторы» 20–30‐х годов, которых привлекала странность как вчерашних, так и сегодняшних вещей, сегодня хорошо знакомы по романам Константина Вагинова. Хуже знают, что некоторые прототипы его персонажей не просто собирали картинки и вещи, а «комбинировали» их в странные конструкции и коллажи. Например, друзья Вагинова – поэт Егунов или писатель и художник Юркун. Поскольку они практически не существовали в официальной культуре, их литературное или художественное творчество соседствовало с домашней практикой на равных правах. Упоминания о такого рода «домашних художествах», которые встречаются и в литературе об обэриутах, достаточно разбросаны по мемуарным свидетельствам о жизни ленинградской интеллигенции с 20‐х по 80‐е годы… Собственно говоря, предыстория «функциоколлажа», который сегодня представляет собой признанное искусство Вадима Воинова, состоит в его прошлой жизни ленинградского искусствоведа и музейщика – одного из типичных создателей бытового явления, которое Андрей Хлобыстин окрестил народным концептуализмом .
В те же годы, когда Вагинов создал вполне сатирический портрет ленинградских «систематизаторов», французские сюрреалисты призывали искать в такого рода занятиях более глубокий и поэтический смысл. Хотя в Ленинграде 20–30‐х годов вряд ли знали книги Андре Бретона или раннюю книгу Арагона «Парижский крестьянин». Выраженные в них идеи были логическим развитием идей, определявших и русскую культуру Серебряного века. Как и их французские сверстники, петербургские гуманитарии выучились интересу к эстетике и мифологии повседневности большого города по стихам и очеркам Бодлера, даже если его мысли повлияли на них в передаче трёх поколений русских авторов – как символистов, так и футуристов. Как и французы, они не могли не увидеть в китчевом ширпотребе иронического соответствия эстетизму Уайльда и Гюисманса. Если в Париже 20‐х ходили истории про скандальный писсуар «работы» Дюшана, то в Ленинграде такой же легендой был, пожалуй, «Гимн башмаку» Зданевича… Одним словом, осознание мировой катастрофы, самым кошмарным проявлением которой стала русская революция, в Ленинграде опиралось на такую же эстетическую «чувствительность к современности», которая вызвала дадаистский и сюрреалистический культ найденной или изготовленной странной вещи «с функцией символа»: «стихотворение в предмете», «предмет-сновидение» и т. п. В Ленинграде в 20–30‐е годы идеи сюрреализма, как выразился в своих воспоминаниях В. Петров, «носились в воздухе», а отзвуки психоанализа были достаточно общим увлечением времени, чтобы не заставить искать в предметах выражение «внутренней модели» подсознательного и путь к созданию собственной «новой мифологии» жизни. Такая личная практика была здесь к тому же неплохой терапией от мифомании и промывания мозгов при советском режиме.
Вадим Воинов принадлежит к тому послевоенному поколению ленинградцев, людей 60–70‐х, у которых художественный вкус к вещи уже был связан с отзвуками дадаизма и сюрреализма, закреплёнными в современном искусстве новыми реалистами и художниками поп-арта. Конечно, в условиях культурной изоляции сведения об этих течениях могли быть только туманными. Но живую связь с современными вкусами можно было поддерживать с помощью иллюстрированных польских и чешских книг таких популяризатов эстетики, как очень обстоятельный писатель Анджей Банах. С другой стороны, воображение раздражали отрывочные возмущённые заметки советских критиков и журналистов о «западных нравах», и стихийная эстетическая практика стала постепенно оформляться в довольно эмоциональное и протестующее представление о неофициальном искусстве.
Читать дальше
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
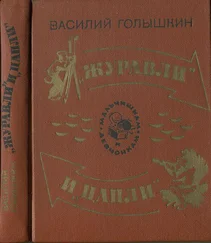

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)


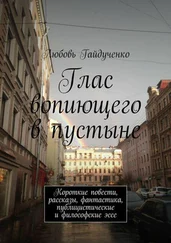
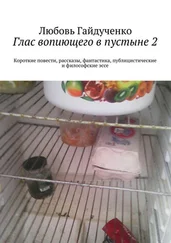
![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)