– Капитан воздушного судна «Эксельсиор» Молчанов просит гостей НЕ КУРИТЬ в их каютах. Во время нашего плавания они могут заболеть. Курительный салон, библиотека и столы для игры располагаются в общей кают-компании, дальше по коридору. – Внизу была такая же надпись на французском языке.
Я понял, как нам повезло, что первое время дирижабль, насколько это было видно сбоку в небольшой круглый иллюминатор, шёл по ничем не тронутому ясному небу. Я первое, что заметил, – это Васино лицо, которое всё как будто раскрылось. – Вот они. – В воздухе перед нами поднималось облако. Его белоснежный вид, на солнце слепивший глаза, ещё почти совсем не угадывался в лиловатых тенях. Я было сравнил его с летучим островом – Лапута, – который придумал Свифт, но я тут же сообразил, почему Протасов, просидевший годы у берега моря, так снисходительно писал мне о литературе. Я всё чересчур привык сравнивать и только теперь увидал, насколько мы уже хорошо уплыли из дому, что все мои мысли и все слова приходят на ум издалека, как со дна. Я вроде бы видел непонятную мне белизну, облако которой подошло к нам совсем близко. За ним мы увидели другие, островки которых на студёном ветру за нашим окошком пошли грядой, открывая взгляду очень ясное и очень плывущее пространство.
В кают-компанию, которую нам рекомендовали, стоило заглянуть. После уютной, но достаточно тесной каюты перейти сюда из такой ясной спартанской обстановки было всё равно, что выйти в открытые небеса. Я просто замер, потому что в первую секунду, пока я ещё не привык к большому свету в большом помещении, мне показалось, что мы попали сюда прямо из дирижабля в салон одного из тех богатых особняков прекрасной эпохи , громадные окна которых с такой загадочностью тускло светятся ночью в городе, а залы всегда привлекали меня своим строгим и слегка сумрачным великолепием; это и оказалось нашей кают-компанией, хотя нужно сказать, что убранство очень преувеличивало её скромные размеры. Позже Васенька мне показывал, что лепная растительность, которая бордюром вилась по её потолку, создавала вид свода, обтекающего весь длинный двухсветный зал; сплошные стеклянные стены были перекрыты тонко сплетающейся из металлических лиан аркадой, которая заставляла вспомнить зимний сад в оранжерее, хотя только у входных дверей в зал и стояли всего лишь искусственные пальмы; на хорах, которые вели в службы верхней палубы, виднелись книжные полки. Всё это было удивительно, однако сразу же, как свежие терпкие духи, привело нас с Васенькой в чувство глубочайшего комфорта, и мы переглянулись с улыбками; мы прошли мимо громоздких диванов и кресел, которые были расставлены на коврах вокруг пары ломберных столов и большого концертного рояля: я вдохнул запах кожи и снова, как утром, – хорошего дерева. В другом конце зала расположился мерцавший стеклом и серебром приборов белоснежный стол, вокруг которого крепостью, которая была очень даже забавно похожей на готические башенки на домах русских богатеев, вздыбились спинки стульев, и рядом стояли на ковре и ждали все собравшиеся к обеду. Билибин уже расстался со своей фуражкой, и сейчас он с увлечением раскланивался по какому-то поводу своей лысиной с Жоржем, который сверкал очками, как сытый заяц. Матросы, оба, поздоровались с нами вежливо, как ребята. Глеба, который, по-видимому, уже отобедал и должен был оставаться на мостике за капитана, не было. Я сперва всё-таки опешил от внешности Жоржа. Я уже писал, что мы с Васенькой постарались выглядеть достаточно серьёзно, и вот теперь рядом с Жоржем, который переоделся в тоненький апельсиновый блейзер и в белые слаксы и был в белых же парусиновых туфлях на босу ногу, мы были застёгнуты наглухо, в своих свитерах и в пледе, как курортные дураки. Жорж тоже был дурак. Я сразу увидел себя, как девяностолетнюю Тётеньку Бельскую, которая, в 70‐е годы, каждое утро выходила к полудню, – вся состоящая из мантилий, кружев и огромной соломенной шляпы, – в дюны под тенью сосен над курортным побережьем; за ней следует её домашняя работница с шезлонгом и с большим пляжным зонтиком; старуха садится глубоко в тень, и дюна отбрасывает необыкновенную тишину на пляж внизу, потому что никто из загорающих там дачников не подходит к этому месту ближе, чем на выстрел. Но сейчас они смотрят, как по светленькому песочку к нему топает маленький Виктор Погодин, я хочу сказать, все дети, я сам, и Жорж, то есть Юра Ермолов, и уже взрослая Полина, и все наши родители смотрят, как мальчик подошёл к самому шезлонгу Тётеньки Бельской. Я услышал, как будто сам говорю. – Чего тебе нужно, Мальчик? – Я любуюсь, – это говорит белоголовый малютка Погодин, выпятив губку и широко раскрыв сероватые пустые глаза. – Какой у Вас, Милица Степановна, прекрасный туалет. Как замечательно Вы сегодня выглядите. – Вот как замечательно я сегодня выглядел. Вася, по-моему, тоже посмотрел и одёрнулся. Но всё было ничего. Все стояли у грандиозного стола запросто, и Жорж в своей пляжной одёжке, и Билибин в строгом костюме, и мы с Васей в наших свитерах и в пледе, и оба матроса, Стёпа и Павлик, в тёмных клёшеных брюках и в разных фуфайках с открытой грудью, все вместе мы были как хорошая экспедиция. Я вздохнул и даже хотел подойти к Илье Петровичу, чтобы спросить у него какую-нибудь ерунду, но тут в дверях наконец показался капитан Молчанов. Я пишу именно – показался, – потому что его вид был очень внушительным. Все сразу замолчали, и Илья Петрович даже не сразу подошёл к нему, чтобы представить капитану Васеньку, с которым они ещё не были знакомы. В капитане Молчанове, Константине Романовиче, всё было крупно и крепко, как наш дубовый обеденный стол. Я даже как-то робко пожал его большую мягкую лапу, очень тяжёлую; я не знаю, служил ли он когда-нибудь военным, но капитан был человеком безусловного большого стиля, и когда он просто и коротко пригласил всех садиться к обеду, это прозвучало торжественно и внушительно, как знаменитое «господа офицеры».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
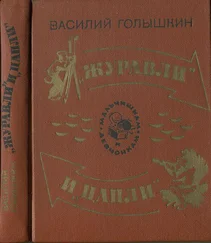

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

