<
1994 >
Не понимаю, откуда я оказался в машине, которая подвезла меня к одному из запасных выходов громадного и мягко белеющего в предзакатном свете гостиничного комплекса: в ушах всё ещё как бы слышался очень далёкий из телефонной трубки голос Сванидзе, старого и то ли забытого, то ли вообще незнакомого мне грузинcкого коллеги моего отца, и его мне следовало застать непонятно где в недрах здания. Через узкую чёрную лестницу меня с какой-то пьяной растерянностью или уверенностью ведёт по кажущимся чрезвычайно запутанными из‐за протяженности и однообразия этажам, по освещённым скрытыми люминесцентными лампами и непропорционально высоким для современного делового помещения коридорам мимо строя одинаково громоздящихся чёрных дверей; я уже оказываюсь в одном из этих обитых сумрачной мягкой синтетической кожей номеров за столиком, за стаканчиком тёмного вина с высоким сухопарым и элегантным грузином, который кажется мне ещё выше и даже расплывающимся, как персонаж Эль Греко, может быть, потому, что я ещё немного смущён этой ночью и не разбираю, что он рассказывает, судя по всему, о моём отце. Не помню, сколько уже месяцев или лет он проживает за границей, переезжая из страны в страну и только изредка наведываясь сюда, так что мне никогда не удаётся хотя бы дозвониться ему, и вот он оказывается здесь, почему-то останавливается по дороге в очередное путешествие в этой гостинице, на день, может быть, на считаные часы. Собравшись с мыслями, я наконец понимаю, что сижу в гостиничном баре, что мой собеседник на самом деле не тот, а совсем другой грузинский коллега отца, Сихарулидзе, такой же высокий и неотразимый, как очень много лет назад, когда он производил фурор на дачном пляже, совсем не изменившийся, и что другой человек, вероятно, всё ещё ждёт меня где-то в непроходимых коридорах отеля. Я покидаю Сихарулидзе и снова пускаюсь по таким же наркотически освещённым, но вместо дверей украшенным искусственной зеленью переходам, иногда прохожу затемнённые мерцающие холлы, загадочные боковые лесенки, наконец оказываясь на площадке некоего патио под сумрачно голубым небом, открывающей мне непроницаемо застеклённый кишечник лоджий, подъёмников и эскалаторов, с одного из которых сходит мой нагруженный чемоданами и коробками отец. Когда я бросаюсь к нему на шею и целую его, меня вдруг поражают его неожиданная стать, свежесть, крепость щетины на ещё молодом подбородке, его очевидная молодость и моё собственное невероятное и всё объясняющее детство, потому что я как бы встречаю его вернувшимся домой около 20 лет назад из Нью-Йорка и ещё слишком мал, чтобы всё окружающее не громоздилось и не сливалось у меня в уме.
Это была совершенно мимолетная встреча на бегу, ничем не поразившая и не ранившая меня, кроме той холодности, которой не бывало в детстве и которая, напротив, сопровождала все наши более поздние свидания. Я совсем забыл, на чём мы расстались, и смутно припоминаю оставшуюся ночь в этой путаной гостинице, то ли со Сванидзе, то ли с Сихарулидзе, которая постепенно изглаживается и сливается со всеми остальными моими похождениями последних дней. Сейчас я уже лучше понимаю отца, его отдалившие нас недоумение и некоторую растерянность передо мной. Он вернулся, как всегда возвращался домой после поездки, чтобы застать кого-то ещё более неожиданного и непонятного, чем обнаружил в себе я сам. Кто, в самом деле, может теперь представить себе меня ребёнком? Однако если ещё можно понять внезапно повзрослевшего сына, всё равно остаётся загадкой, зачем он тогда проводит жизнь, что в ней сделал и с кем, наконец… Разве мне самому удалось бы ответить ему на все эти вопросы? Думаю, что, даже справившись со случившимся проблеском во времени, он всё равно не понял, кто я. Он привёз мне игрушек, как всегда привозил откуда-нибудь домики, железные дороги и человечков, и тем более растерялся, нужны ли они мне или уже не нужны, зачем… Откуда ему знать, что с возрастом мне очень нужно только всё больше игрушек, потому что есть с кем делиться?
<
1995 ?>
Казалось бы, ты здесь недавно, приехал совсем накануне: однако ничто на пути – какая-нибудь зацепка, случайная сцена, надпись над дверью – не удерживает внимания, изглаживаясь, как минуты, подчинённые незаметно скрадывающемуся прерывистому дыханию окружающего города, замершие на времени, обозначенном автобусным билетом, который каждый раз заново комкаешь в кармане. Когда забываешься в скудно обставленной комнате, то же неимоверно ускорившееся дыхание нарастает в воображении: холодея от усилия, пытаешься уследить, чем питаются изнутри эти глухие вздохи инородного организма, сокращающегося в твоём сне и как бы рисующего смуглую, смутно знакомую фигуру, – может быть, из забытого цирка? – которая неуловимо перемещается во мраке без видимых движений, завораживая, подчиняя себе и перехватывая дыхание, как сомкнувшаяся над головой вода. Ночью смутно мерцающий под луной город вырисовывается во всём своём отчуждении, которое напрасно пытаешься разглядеть и преодолеть, цепляясь за любой мелькнувший в далёком окне свет. Должно быть, это необъяснимое, усиливающееся от жары отчуждение делает невыносимыми закрытые стены, каждый день выводит тебя бродить под солнце, на которое ты не можешь поднять глаз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
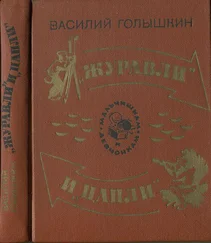

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

