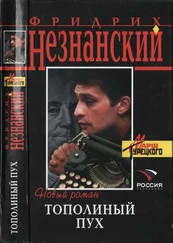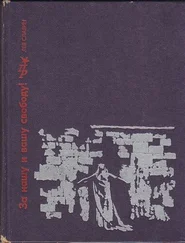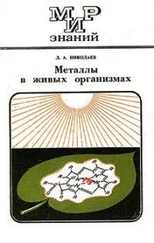В коридоре их окружили.
— Что здесь происходит? — раздался неожиданно над Сережкиным ухом голос.
Это спрашивал завуч.
Павел Андреевич не мог не заметить той перемены, которая произошла в Сережке. Его глаза в этот день были более сосредоточенными, а сам он весь напряженным, словно в кулак сжался. Это мешало художнику — уходила непосредственность и та чуть уловимая удивленность, которая была в подростке раньше и которая была ему так нужна.
— Что у тебя случилось? — спросил он наконец Сережку.
— Ничего.
— Как ничего? Я же вижу…
— Ничего, — поморщился Сережка.
Павел Андреевич снова начал рисовать, но через несколько минут опять заметил:
— Нет! Не могу. Не то…
Сережка почувствовал себя виноватым, и Павел Андреевич это увидел. «Ладно, — подумал художник, — черт с ним сегодня, с сеансом! Не могу же я, в конце концов, заставить думать человека, если он не может…» Они помолчали. Павел Андреевич опять увидел, как смотрит Сережка на развешанные по стенам картины, словно хочет запомнить каждую из них.
«А был ли он хоть раз в Третьяковке?» — задумался художник, но спрашивать не стал: ясно, что Сережка там не был.
— Пойдем в Третьяковскую галерею, Сережа? — предложил он.
— Пойдемте, — ответил тот с готовностью. — А когда?
— Когда хочешь… Хочешь, пойдем сегодня.
Сережка знал, что в Москве есть такая галерея, что в ней много картин, но, как угадал Павел Андреевич, он там ни разу не был. Правда, в прошлом году, в старой школе, их класс ходил туда, но его тогда не взяли — брали только «хороших». Впрочем, когда учительница объявила, что класс пойдет в Третьяковскую галерею и сказала, что нужно принести на билеты деньги, Сережка тоже принес. Однако она у него и еще у нескольких ребят денег не взяла, заметив при этом: «Вы еще натворите там что-нибудь, опозорите всех. Нет, уж лучше оставайтесь. Третьяковская галерея — это не для вас. Когда исправитесь, тогда и пойдете…»
Сначала в Третьяковке Сережка молчал, озираясь по сторонам и изредка поглядывая на Павла Андреевича. Потом осмелел, стал подходить к картинам близко, словно хотел убедиться, уж не настоящее ли то, что на них нарисовано. Но в непосредственной близи виделись только грубые корки застывшей краски.
— Не надо так близко подходить, — посоветовал ему художник.
Сережка послушался. Теперь он останавливался от картин подальше и тихо спрашивал:
— А это что? А это?..
И Павел Андреевич объяснял.
Мир, который открылся тогда для Сережки впервые в мастерской художника, сейчас будто засветился. Подросток почувствовал, что тонет в океане красок, окруживших его со всех сторон, что эти краски отодвигают от него все неприятности, веселят, радуют, заставляют даже по другому глядеть на людей, которые находятся сейчас здесь, в этой галерее, в этих больших высоких залах. И он торопился смотреть на картины. Многие, как ни странно, показались ему знакомыми. «Богатыри», «Золотая осень», «Утро в сосновом лесу», — читал он надписи. «Где-то я их видел? Правда, не такие, а маленькие. Но где? Где я их видел?» «Богатыри»! Ну, точно на папиросной коробке, «Утро в сосновом лесу» — на конфетах, а вот где «Золотую осень»? Он начал лихорадочно вспоминать, даже морщил лоб, щурил глаза, но вспомнить не мог.
Внезапно Сережка обратил внимание на картину во всю стену.
— Иванов, — пояснил ему Павел Андреевич, заметив его удивление. — «Явление Христа народу». Художник ее писал девятнадцать лет…
Однако картина Сережке не понравилась. «Хотя, конечно, — отметил он про себя, — такую большую можно рисовать девятнадцать лет».
— А куда она идет? — остановился Сережка перед картиной «Аричча близ Рима» и показал глазами на нарисованную на ней женщину.
— Не знаю… — ответил Павел Андреевич.
Сережка удивился:
«Как это не знает? Все знал, а это не знает?»
Но художник действительно не знал, что отвечать. В который раз Сережка ставил его в тупик.
— Куда идет? — повторил Павел Андреевич. — Да не все ли равно? Идет, и все… Разве это главное?
Он с досадой взглянул на подростка.
«Ну да! Он видит в картине только сюжеты! — ответил сам себе художник. — Он не оценивает в них настроения, не видит мысли. Но как ему это объяснить?»
Павел Андреевич посмотрел на картину, и на память пришли прочитанные когда-то о ней слова: «Кажется, пот проступает в этих деревьях, роскошных до излишества, в этой пестрой цветистой траве, на прелестном смуглом лице поселянки». Но он не стал повторять эти слова Сережке, а, посмотрев еще раз на картину, начал:
Читать дальше