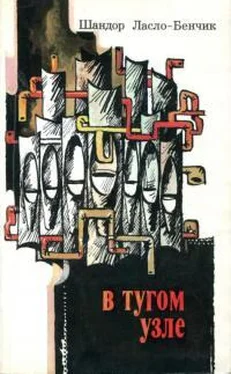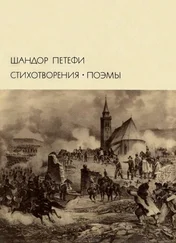Дурачась и поддразнивая друг друга, мы продолжали двигаться по улице. Вскоре мы отыскали подходящее кафе, которое словно предназначалось для того, чтобы мы отпраздновали мой выход на свободу. Денег у меня было достаточно, поскольку в тюряге нас заставляли трубить, чтобы не отвыкали от труда. За еду у нас высчитывали по минимуму, так что банкноты у меня имелись. И я сказал ребятам: «Ешьте, пейте сколько влезет, сегодня я угощаю!» Но Канижаи мгновенно отреагировал, заявив, что не потерпит никакой выпивки, тем более они с Виолой должны вернуться на завод. А во второй половине дня намечено провести митинг, на который прибудут иностранные ораторы. Помню, я был как-то внутренне скован и больше подыгрывал им, изображал невероятное самомнение и удаль. И все же я бы почувствовал себя совсем не в своей тарелке, начни они меня жалеть, проявлять заботу и все такое. Но Канижаи только спросил, куда я собираюсь идти: мол, если мне негде переночевать, я спокойно могу пожить у него несколько деньков, пока найду себе приют. Я небрежно бросил: «Есть у меня одно теплое местечко, как ни быть!» Хотя на самом деле у меня и угла-то не было тогда. Но я думал, где-нибудь переночую, а там видно будет. Они стали звать меня вместе с ними на завод, но я соврал, что у меня встреча. Хотя мне не с кем было встречаться. Искренне обрадованные, они распрощались со мной. Но когда они вышли из кафе, я как-то обмяк, словно проколотая резиновая покрышка.
И по сей день в толк не возьму, как там оказалась эта бабенка. Может, она на меня глаз положила, когда я вышел из ворот тюрьмы с небольшим свертком в руках, но, видно, я ей по-настоящему приглянулся. Она вовсе не клеилась ко мне, да и я не откалывал дурацкие шуточки, но из кафе мы вышли вместе. Не разговаривали, а просто брели бок о бок, рядышком, словно давнишние знакомые.
Так я сошелся с Мартой. Я переселился к ней через два часа. Мы ни о чем не расспрашивали друг друга, вместе нам было хорошо, мы радовались, что все так вышло. Денька через три она спросила, как мне у нее нравится, я ответил, что никогда так прекрасно себя не чувствовал. На этом все формальности и закончились.
Но через полгода к нам наведался в гости Канижаи. И вроде невзначай спросил, когда мы собираемся пожениться. Он был свидетелем, когда мы расписывались. К сожалению, крестного отца из него не получилось: Марта не могла рожать. Возможно, позднее это сыграло свою роль. Но это уже очень личное, боюсь тебе наскучить пересказом интимных вещей. Одним словом, трагическая история вышла. У Марты что-то сделалось с нервами, дом постепенно превратился в бедлам и цирк, просто свихнуться можно было. Я сам не агнец божий, но можешь себе представить, что́ творилось, если в итоге суд развел нас из-за невменяемости Марты.
Я мог остаться у нее в доме: две комнаты, все удобства, но я переселился в каменный сарайчик. Стены там кирпичные, окно, дверь, — мне вполне достаточно. Я прорубил для себя отдельную калитку (без всякого разрешения) и на нее прикрепил табличку с надписью: «Янош Шейем, слесарь и кандидат, выпущен на свободу после отбытия восьмилетнего заключения строгого семейного режима».
Что тебе еще рассказать? С той поры я живу припеваючи. Есть предположение, что старик бедолага Эйнштейн создал свою теорию относительности на примере моей судьбы. У меня нет никаких особых проблем и забот, потому что я не переживаю по пустякам. Ведь жизнь так коротка, Марцелло.
Ну а теперь, приятель, напряги немножко мозги. Теперь ты понимаешь, что такое для меня Янош Канижаи?
И соотнеси это с премией, которую, по твоему мнению, батя устроил себе за нашими спинами.
Марци Сюч слушал Яни Шейема со все более мрачным видом, молча. Казалось, его внимание было целиком поглощено обедом. Однако вскоре выяснилось, что он по горло сыт нашими проповедями. Доев, он встал и сообщил нам это.
— Черт побери, все вы меня воспитываете! — вырвалось у него. Казалось, он просто рассуждает вслух. — Учит уму-разуму отец, пилит мать, воспитывают родственники по законам каменного века. Словом, дома меня в ежовых рукавицах держат, но, выходит, этого мало… — И он высказал нам все, что у него наболело. Выпустил пар. — И это еще не все! — проговорил он, подняв палец вверх. — Меня воспитывали в детском саду, школе, читали нотации в пионерской организации, в комсомоле. Меня и сейчас прорабатывает профсоюз и завод. Меня воспитывают старые перечницы в трамвае, которым некуда торопиться, мне проел плешь бригадир Янош Канижаи и наш ВОХР на заводе. На мне практикуются в педагогике все: и стар и млад. И в довершение ко всему в этой чертовой бригаде каждый тоже хочет слепить меня по своему образу и подобию. Пожалуйста, поимейте в виду: мне это все до чертиков опостылело.
Читать дальше