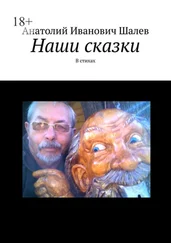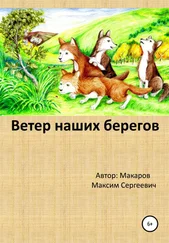В тот самый час, когда Ростислав, надо полагать, входил в зал «Хилтона», предназначенный для официальных обедов в не слишком широком кругу, Андрей переступил порог ресторанчика, который содержала та самая знаменитая пивная фирма, чью продукцию он обнаружил в своем холодильнике. Он сел в углу, рядом с дверью, ведущей в кухонные недра заведения, и некоторое время с удовольствием наблюдал за официантами, похожими на персонажей комедий времен немого кино. Усатые, толстые, со свирепыми от спешки и натуги лицами, они не останавливались ни на минуту, на распяленной пятерне таскали огромные подносы со снедью, ногой отталкивая дверь, выносили из мойки высоченную скользкую гору пустых тарелок, выписывали счета решительными небрежными росчерками, будто давали автографы, и деньги собирали в большие кожаные бумажники гармошкой, — видимо, такие в старой России назывались «лопатниками». Один из официантов, шевелюрой и загнанным прерывистым дыханием напоминающий Бальзака, поставил перед Андреем бутылку, откупорил ее движением фокусника и опрокинул в высокий тонкий стакан.
Теперь Андрей далее радовался тому, что не получил приглашения на прием; в этой пивной с ее понятной, по-крестьянски поперченной едой на этом потертом бархатном диванчике ему было уютнее, чем в своей пятизвездочной гостинице. И вообще хорошо было. Он доедал кусок мяса, допивал пиво и уже знал, что кофе будет пить в кофейне через дорогу. Господи, вот и все, оказывается, что ему требовалось от жизни. Другие люди в его возрасте меняют машины, вступают в дачные кооперативы, строят дома, избы покупают в заброшенных деревнях на предмет их преобразования в благоустроенные коттеджи, а ему единственная радость — хоть изредка, хоть бы раз в году от души пошататься по улицам старой Европы, вконец истереть каблуки на аккуратных ее торцах и вот так вот посидеть за столиком, на который рядом с пивным стаканом можно положить газету, книгу и даже перо с бумагой. Другое дело, что лучше бы ему вдохновляться грезами о собственном загородном доме, об избе, о коттедже, о шале́, о черте в ступе, поскольку единственная его заветная мечта никак не давалась ему в руки.
Только один раз показалось, что мечта сбывается. Это было давно, семнадцать лет тому назад, в последнее время Андрей уже и но вспоминал об этом, не находя вокруг себя никаких подтверждений тому, что все это взаправду случилось с ним, в его собственной жизни. А может, и не с ним, может, прочел он об этом в какой-нибудь увлекательной книге, из тех, которые читаешь всю жизнь, постепенно путая повороты ее сюжета с фактами собственной биографии. Если бы не этот внезапный подарок судьбы, не эти шатания без руля и без ветрил по придунайской веселой столице, воспоминания о той давней поездке не очнулись бы в нем с почти невероятной уже явственностью. И не случайно, конечно, стало ему казаться, что бывал он уже на берегах Дуная, это семнадцать лет назад воспринятая европейская порода тотчас обнаружила себя в здешних кварталах. Да и здешние люди напоминали ему итальянцев не столько общей чернявостью и живостью, сколько вкусом к уличной жизни, к хорошей кухне, страстностью южан, спрятанной за приветливой цивилизованностью и хорошими манерами.
Да, та давняя его командировка была на юг, в Италию, в Рим и в Венецию. На конгресс Европейского общества науки отправлялась вполне представительная делегация, и Андрею вдруг предложили поехать вместе с нею в роли секретаря и переводчика профессора Кампова. Тогда ему в этом изумительном, хотя и ответственном предложении почудилась многообещающая улыбка судьбы; теперь же, отвергая мистические предпосылки, он трезво сознавал, что его просто-напросто решили п о п р о б о в а т ь. Но почему именно его, вот в чем вопрос. Разве трудно было найти для такой поездки профессиональных знатоков французского — рабочим языком конгресса по традиции, из вызова американизму, был именно французский — недавних выпускников иняза или МГИМО, ловких, пружинистых юношей, знатоков протокола и международных обычаев? Но то-то и оно, что требовался не профессиональный переводчик, не корректный и хладнокровный специалист со стороны, а именно человек из этой среды, пусть и молодой, но все же ученый, который и помимо толмаческих переложений сумеет при случае вякнуть что-нибудь от себя, о своих собственных занятиях и прожектах на будущее.
С профессором Камповым Андрей сошелся быстро, едва ли не в тот же день, когда приехал к нему в институт представиться — профессор и под старость при всех своих премиях и регалиях оставался вузовцем двадцатых годов, шумным, непочтительным к авторитетам, несдержанным на язык, ненавидящим галстуки; на его счастье, именно тогда в моду входили водолазки. Обеспокоенный непривычной миссией, Андрей немного успокоился; с таким веселым дядькой, который на второй же минуте стал обращаться к нему «старина», проблем можно было не бояться. В Шереметьеве перед отлетом Кампов представил Андрея остальным членам делегации; казахскому академику Турсуеву, похожему на японского премьер-министра из хорошего самурайского рода, философу Яфетчуку, высокому, рыхлому, некогда, видимо, тощему хлопцу, раздавшемуся со временем на академических харчах, и товарищу Чугунову из общества дружбы и культурных связей, кажется, бывшему дипломату, превосходно одетому и постриженному, с барственными манерами и постоянно чуть раздраженным лицом большого начальника. Никто вокруг в непосредственном подчинении у Чугунова не находился, раздраженность приходилось преодолевать самому, и потому, вероятно, на холеном его лице время от времени возникала гримаса вроде бы ничем не оправданного нетерпения.
Читать дальше
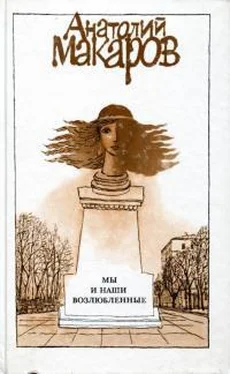
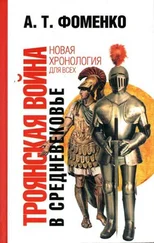
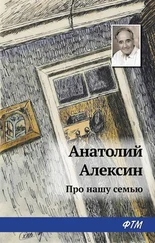

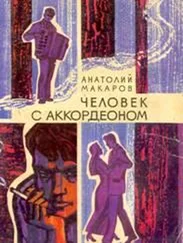
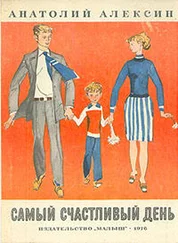
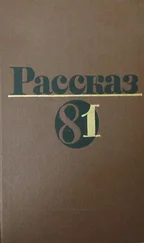
![Анатолий Алексин - Про нашу семью [= Звоните и приезжайте]](/books/429670/anatolij-aleksin-pro-nashu-semyu-zvonite-i-priez-thumb.webp)