– Отпусти меня, Берни, – просит Эстер. – Я мучаюсь. Отпусти.
Бернард мотает головой, он понимает, о чем она просит. Голос наконец слушается.
– Я без тебя не могу, – говорит он хрипло. – Ты мне нужна. Хоть как.
– Тогда и себя отпусти.
Бернард наконец роняет поднос, любимая цветочная чашка Эстер бьется, печенье рассыпается, заварник падает на бок, заливая ковер крепким чаем. Кот подпрыгивает от грохота, взлетает обратно на подоконник и убегает в сад.
– Пожалуйста, – говорит Эстер. – Пожалуйста, Берни…
Ее глаза мутнеют, она роняет голову на плечо и засыпает, похрапывая. Когда просыпается, все начинается по новой – хитрая жопа, где моя собака, мама, мама. Как и было много лет.
Бернард размышляет. Ставит на крыльцо блюдце со сливками. Кот приходит и пьет, но в дом больше не лезет. Иногда поднимает голову и смотрит, у него странные серые глаза.
Бернард весь день пишет письма, пишет записки, пишет открытки, пишет послания на фейсбуке. Вечером заказывает ужин из ресторана, открывает вино. Эстер нюхает бокал и опрокидывает его на ковер. Бернард выпивает два – вино пахнет солнцем других стран, спелыми яблоками, летней рекой. Потом он наливает ванну – у них большая ванна, раньше они любили купаться вместе.
Он несет Эстер наверх по узкой лестнице, раздевает ее, аккуратно сажает в горячую воду. Она всхлипывает от удовольствия, откидывается, уходит под воду с головой. Потом садится, отфыркиваясь. Бернард раздевается – в пояснице что-то хрустнуло, когда он поднял жену, но какая уже теперь разница? В самом конце есть чудесное ощущение свободы – потому что беречь больше ничего не надо.
Бернард знает, как надо правильно резать вены, ему рассказывал об этом мальчишка-ирландец, когда они пытались навести понтонный мост через реку Недеррейн взамен разрушенного, чтобы пехота союзников могла взять Арнем. Четыре дня ада и крови, потом отступление. Бернард хорошо помнил тот разговор и того мальчишку – он потом выкапывал его из-под жидкой французской грязи, истекшего кровью – вены так и не порезал, взрывом оторвало ногу. Не промахнулся мимо своего католического рая.
Бернард поднимает руку, с нажимом проводит по ней лезвием старой, очень острой отцовской бритвы. Больно, конечно, но терпимо. В восемьдесят семь лет все – терпимо. Эстер внимательно смотрит. Он кладет ее тело на свое, ее голову – на свое плечо. Поднимает ее руку. Она чуть вздрагивает, когда чувствует лезвие, но руки не отнимает. Кровь смешивается с кровью. В доме очень тихо.
– Мама, я написяла в воду, – вдруг говорит Эстер. – Прости, я не хотела.
Бернард смеется. Эстер тоже смеется. Они лежат в быстро краснеющей воде, голые и горячие, и смеются. Утром к дому придет молочник – Бернард оставил на крыльце записку, что молока сегодня не надо, спасибо, не затруднит ли его вызвать полицию и скорую – забрать их тела?
Бернард обмакивает палец в кровь и рисует на белой плитке кафеля. Спираль, улитка, две точки глаз, завиток… Палец сползает по стене. Сознание плывет, будто он – не только он, но кто-то еще двигает его рукой. Будто улитка что-то значит.
Эстер поднимает руку – ее палец тоже в крови – и пририсовывает улитке улыбку.
– Хорошая была жизнь, – говорит она. Бернард кивает, он помнит танцы, походы, путешествия, вечера у телевизора, жаркие поцелуи, настольные игры, споры, работу в саду, ужины и кофе. В году больше полумиллиона минут. В шестидесяти – тридцать один с половиной миллион. Из них счастливыми для них были как минимум двадцать миллионов. Грех жаловаться.
Бернарду тепло, он хочет спать, он испытывает нежное, спокойное наслаждение от прикосновения тела Эстер, от ее нетрудного веса на его теле, от ее запаха.
– Любовные письма пишу на песке, – тихо шепчет Эстер песню из их молодости. – Любовные письма – тебе, тебе. Море слижет буквы, разбросает песок, заберет мою память. Но я написала о любви – и значит она была, и мы были… мы были.
Ее голос слабеет. Она замолкает, откинувшись на плечо мужа, расслабляется, ждет. Два сердца стучат в двери смерти все настойчивей, и вот дверь отворяется – заходите. Обнявшись, Бернард и Эстер скользят в темноту за дверью, принимают ее, становятся ею.
Стук усталых сердец замедляется. Наступает тишина.
Улитка улыбается со стены.
А еще жила женщина, ну как – женщина, девчонка совсем еще, просто замуж очень рано выскочила, лет в девятнадцать. По нашим временам – детство детством, сейчас ученые считают и томограммами подтверждают, что мозг взрослеет только годам к двадцати пяти. Если вообще. Синапсы прорастают, закрепляются, случается утряска и усушка во взрослое состояние, у кого уж какая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Тимур Максютов Зеркальные числа [сборник litres] обложка книги](/books/394925/timur-maksyutov-zerkalnye-chisla-sbornik-litres-cover.webp)
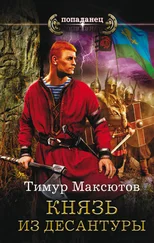
![Тимур Максютов - Нашествие [litres]](/books/33339/timur-maksyutov-nashestvie-litres-thumb.webp)




![Александр Матюхин - Зеркальный лабиринт [сборник litres]](/books/396821/aleksandr-matyuhin-zerkalnyj-labirint-sbornik-lit-thumb.webp)
![Лариса Бортникова - Зеркальный гамбит [сборник litres]](/books/402212/larisa-bortnikova-zerkalnyj-gambit-sbornik-litre-thumb.webp)
![Тимур Максютов - Чешуя ангела [litres]](/books/435628/timur-maksyutov-cheshuya-angela-litres-thumb.webp)


