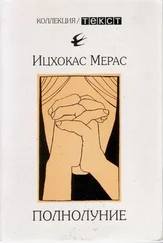Она хорошо знала всю эту церемонию — от начала и до конца, сама не раз в ней участвовала, стараясь точно выполнить все, что было положено ей по роли в этом странном, однообразном, всегда одинаковом и всегда другом представлении.
Обычно в нем четверо действующих лиц.
ОФИЦЕР.
Который сообщает это.
Ваш отец…
Муж…
Брат…
Сын…
Уже не вернется.
Погиб.
Защищая родину.
Смертью храбрых.
ДЕВУШКА-СОЛДАТ.
Которая молча передает какие-то вещи.
Документы, фотографии — одну или несколько, книгу, зубную щетку, недописанное письмо, носовой платок, очки — от близорукости или от солнца, записную книжку, часы, солдатский жетон на цепочке с личным номером, иногда кольцо — обручальное или холостяцкое — золотое, серебряное, позолоченное, из простого металла, с камнем, без камня, или еще что-нибудь.
И — чек. Компенсацию.
Впрочем, нет — чек присылают позже.
Девушка-солдат старается каждый раз не плакать, и плачет — большими, редкими слезами, а порой — вообще без слез, одними сухими черными подглазьями.
ПСИХОЛОГ.
Сама она обычно сидит в сторонке, напряженно прислушиваясь к долгой речи психолога, мужчины или женщины, старясь что-то понять из нее, но слышит только набор слов, которых не понимает, потому что не может взять в толк, как это муж, брат, отец или сын — уже не вернется.
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ.
Который иногда заменяет психолога. А иногда и наоборот.
И она — МЕДСЕСТРА.
В руках у нее потертый чемоданчик — со шприцами, иглами, пакетиками и бутылочками, с успокоительными каплями, таблетками или ампулами.
Знакомая церемония. Постылое, подлое представление.
Каждый день ходила она в барак поджидать чужую, незнакомую машину, потому что не была уверена, известен ли им новый адрес, а может, и потому, что усеянный дохлыми крысами барак был все еще своим, привычным, старым собственным углом, и скуластые двойни всегда провожали ее, и вовсе не каждый день начинали они свою игру, но если уж начинали, она ложилась на жесткий тюфяк, задирала юбку, раздвигала ноги, и братьев уже не надо было звать, а потом она шла мыться, и даже не гнала их из комнаты, потому что ведра с водой были заранее приготовлены, и она становилась над этими ведрами и мылась, а двойни сидели на койке тихо, молча, не шевелясь и не сводя с нее глаз.
Каждый день ходила в барак.
Пока, наконец, не перестала ходить, потому что однажды чужая машина с незваными гостями подъехала прямо к новому дому — стало быть, знали адрес, и она удивилась, что их так мало: не пятеро и даже не четверо, а всего трое перешагнули ее порог, и уж старались они, старались, говорили и говорили долго-долго, так долго, что ей даже слушать надоело, но она все слушала, хоть и молчала, но слушала.
Не прерывала их.
И вещей никаких не надо было принимать, потому что ничего не принесли.
Совсем ничего.
Ибо исчез человек. Пропал без вести.
Усмехнувшись криво, хотела перебить их, сказать:
— Не надо…
Кому это нужно?
Зачем обманывать?
Правда есть правда.
Правду свою она сама знала.
Бросил.
Ушел к другой.
И адрес им дать успел. Знал ведь, еще тогда заведомо знал, что бросит.
12.
Не иначе, как там, в каком-то ином, неведомом краю, далеко-далеко отсюда, тоже был песчаный пустырь, дюны были, а на самой высокой дюне — ветвистое дерево.
Может, тополь.
А может, какое-нибудь другое дерево, с другим названием.
Было все то же утро, и солнце лило в окно багряный свет, а солдат смотрел на женщину.
Она лежала на кровати, разбросав руки и запрокинув голову, утонувшую в мягкой подушке, и тонкая простыня на ней сливалась с каждой складкой тела, и груди были округлыми вершинами Иудейских гор, запорошенных легким снегом, и темные потрескавшиеся губы были бурой, запекшейся почвой Самарии, иссохшей от жажды, и крутая ложбинка между ног была глубокой впадиной Мертвого моря, а длинные, редко вздрагивающие ресницы были жидкими, чахлыми кустами сухих русел Негева, и белые руки текли речками севера, разбегаясь в низовьях узкими протоками, уходившими ногтями в землю.
Солдат стоял, прислонясь к блестящему шкафу и не смея шелохнуться, боялся разбудить ее, потому что, казалось, она спит.
А она шла с Давидом к дереву.
И на нем ничего не было, а на ней — одна сорочка.
Трава жгла холодной росой, и Давид лег на спину и протянул ей руки, и она оперлась на них.
— Кто под небом открытым зачат, тот летать будет, — сказал Давид.
Она смеялась, опускаясь, приближаясь и накрывая его, будто светлым пологом.
Читать дальше