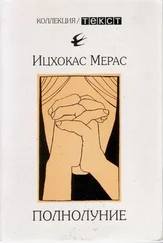Женщина эта была она, а мужчина — солдат, которого привела вчера вечером, но кровать была не здесь, она была далеко, в глубине зеркала, и те двое на кровати, тоже далекие, — совсем не она и не солдат…
— Эй, ты! — крикнула она, глядя, как женщина в глубине зеркала вместе с ней открывает рот, шевелит губами, как дрожат ее длинные ресницы.
Она взмахнула рукой, согнула пальцы.
И женщина подняла руку, показав ногти.
Она встряхнула головой.
И та откинула голову, и длинные каштановые волосы поднялись волной, взметнулись, потекли по обнаженным плечам. Словно кукла-марионетка, которую и на палочках не держат, и за веревочки не тянут.
Странная кукла.
Она усмехнулась.
— Эй, старик! — снова крикнула она, на этот раз — кукле-солдату.
Он смотрел на нее из зеркала.
— Кто ты? Как тебя звать?
— Как звать? — переспросил солдат, глядя на мужчину в зеркале, и ответил:
— Авраам. А тебя?
— Сара! — И глаза у нее блеснули.
— Неправда, — сказал он.
— Сара.
— Врешь!
— Сара.
— Я тебя лучше никак не буду звать, — буркнул солдат.
Он сел на кровати и потянулся за одеждой.
Она смотрела в зеркало, на чужого мужчину, который вдруг оказался Авраамом: вот он не торопясь натягивает майку, надевает мятую зеленую гимнастерку, влезает в солдатские брюки, которые, видно, слишком узки и коротки ему.
7.
Вчера-то не разглядела, что брюки малы ему, наверняка бы он показался ей смешным, если б видела.
Но он совсем не казался смешным.
Солдат ведь.
Хоть и пожилой, непригодный для фронта, но годный для прочих разных армейских дел — тушить пожары, вытаскивать людей из-под развалин, привязывать раненых к носилкам и спускать на веревках с третьего, пятого или десятого этажа, рыть окопы, если надо, а если нет такой надобности, то таскаться с тяжеленной, выбракованной всеми прошлыми войнами винтовкой тут, рядом, в городе, поселке, деревне; просто-напросто расхаживать с винтовкой за плечами, чтобы люди знали — их не только на фронте защищают; чтобы видели — охраняют повсюду их, даже здесь, у дома.
Было легче на душе, заслышав вой сирены, спускаться в бомбоубежище, захлопывать за собой массивную железную дверь, дышать прелым подвальным воздухом, ловить, задравши голову, тусклый свет, едва сочащийся из крохотного отверстия под потолком, и не чувствовать себя заживо погребенной в бетонном ящике, зная, что там, за дверью, остаются пожилые солдаты, которые несут караульную службу, и, если бомба ударит и рухнет дом, они вытащат тебя из-под развалин — живой или мертвой.
Может быть, и живой.
Они, эти пожилые солдаты, должны были оставаться еще и последними защитниками города.
Об этом, конечно, никто не думал, потому что война была далеко, очень-очень далеко.
Один фронт, — который на юге, — отошел, извиваясь ломаными линиями танков и трупов, отодвинулся, перескочил по водам в Африку.
Другой, — на севере, — отступил за горы, побросав в зловонных бункерах обезглавленные обрубки тел.
Он совсем не казался ей смешным, этот пожилой солдат. Да и почти что не виден был на темной улочке, среди затемненных домов, потому что уже смеркалось.
Только слышала его голос, злой, осипший.
— Затемнить! — кричал он, размахивая фонариком. — Затемнить!
Никто ему не ответил, и песня лилась — ни тише, ни громче:
Ахаке леха,
Ахаке леха бэ-соф а-дэрех… [1] Буду ждать тебя, буду ждать в конце пути… ( Иврит. )
Так со второго дня войны пела одна популярная певица.
Тяжелая штора упала на освещенное окно, вдруг стало совсем темно, только маленькая, закрашенная синим лампочка у подъезда, под которой она стояла, вырвала из темноты приближающийся фиолетовый силуэт.
Солдат остановился, замер.
— Здравствуй, — услыхала она знакомый сиплый голос.
Так сипел Давид, когда возвращался, усталый, после трудных полетов.
Она молчала.
— Ты откуда сюда свалилась? — спросил усталый голос.
— Из больницы, — ответила она. — А ты?
— С неба… — просипел он.
— С того света, — сказала она.
— Да нет!
— Из преисподней.
— Пусть будет так, — сказал он. — Важно, что ли?
— Нет, — ответила она.
Они притихли и стояли друг перед другом молча, и она почувствовала на себе его взгляд, такой знакомый, словно ладонь, скользящая по ее распущенным волосам, лицу, груди, потом по животу и бедрам. Она прикрыла руками грудь, заметила, что верхняя пуговица не застегнута, и опустила голову; она была еще в белом заношенном халате — так и не переоделась, забыла переодеться, выбежав из больницы, а халат этот был ей узок и короток, она еще утром скинула свой, грязный, залитый кровью, и схватила первый попавшийся под руку, но халат был чужой, не ее, и нижняя пуговица не сходилась, и голые ноги вылезали — длинные, как бы идущие от самой шеи.
Читать дальше