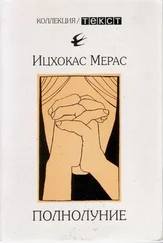Разве будешь жалеть работнику, что трудится от темна до темна?
Он, должно быть, почувствовал ее взгляд.
Обернулся вдруг.
И она увидела мужчину, рыжеволосого мужчину с небритым лицом, волосатой грудью, запавшим животом и набухшим членом.
Может, он мылся и думал о ней, стоя под водяными струями?
Или не о ней?
Но о ком же думать ему, как не о ней?
Не было других, только он да она в большом запущенном доме.
Она без стеснения разглядывала его, застывшего под душем.
— Господи, — сказала она. — Ну не чудо ли…
Шагнула вперед и увидела его голубые глаза, широко раскрытые, подернутые дымкой.
Он что, боялся?
Стеснялся ее?
Желал?
А может, от страха, от стеснения и желанья?
Или от одиночества?
Разве он не был так же страшно одинок, как она?
Разве нет?
Она прижалась щекой к его груди и почувствовала тепло живого тела, мягкое, влажное тепло и твердо обнимавшие руки, а она уж забыла, как руки могут обнимать, не помнила, что так бывает.
— Боже мой… — шептала она, не чувствуя, как слезы льются, льются, не останавливаясь. — Боже, Боженька… Я так соскучилась по теплу! Истосковалась по теплу человеческому…
Был уже поздний вечер, темно вокруг.
В доме тоже ни капли света, даже слабую лампочку в ванной, и ту выключила. Им-то свет был не нужен, и не ждали, что кто-либо придет: жандармы были, проверили, да, собственно, и не проверяли уже как следует ни утром, ни вечером, достаточно ей было крикнуть:
— ……13 в хлеву!
— ……13 в погребе!
— ……13 в огороде!
Да не думала она ни об охранниках, ни о ком другом и выключила свет не со страху и даже не по привычке — темноты ей хотелось, большой, глубокой, кромешной тьмы, и чтоб никого-никого кругом, только он да она, и чтобы в той непроглядной тьме еще крепче прижаться к нему, человеку, влажному, теплому и одинокому, как она сама.
Обнялись они и пошли, не споткнувшись ни разу, не наткнувшись на вещи или ступеньки, поднялись на самый верх, в мансарду, словно кто-то светил им.
Так хотели, и было так.
И они любили друг друга высоко над землей, под самой крышей, на скрипучем деревянном топчане, но никто не слышал, и сами не слышали того скрипа.
Он гладил всю ее, ласкал как любимую женщину, как возлюбленную свою.
Не знала она, что мужские руки, твердые, жесткие, могут быть такими нежными, ласковыми.
— Боже, Боже мой… — шептала она.
И ничего, что не говорил он.
За все время слова не произнес, молчал теперь, и позже всегда молчал, и лишь уходя оставил ей несколько слов, написанных на клочке бумаги.
Может, был немой от природы?
Но что за важность, разве это мешало ей?
Разве слова ей были нужны?
Да и кому они нужны?
А если не молчала она, то не молчала про себя, сама с собой разговаривала, ни с кем другим, даже с ним не говорила.
— Боже мой! — шептала она. — Господи Боже мой… Какое счастье…
Они тихо лежали потом, высоко, под самой крышей и смотрели на скошенный потолок, белеющий при свете луны, глядевшей в узкое окошко мансарды, и она уже ничего не говорила, счастливая и смятенная, поняв, что в ту ночь стала женщиной.
Она повернулась к нему, этому рыжему человеку, который тоже не спал, а молча лежал, глядя на сужавшийся кверху белесый потолок, и прижалась к нему, прильнула, зарылась в него лицом, так что было невозможно дышать.
— Что ты сделал? — спросила она. — Что ты со мною сделал?
Он, как всегда, молчал.
Только улыбался, тоже счастливый, улыбался, не разжимая губ.
— Это было? — спрашивала она себя потом уже, когда осталась одна, забираясь в мансарду и лежа на скрипучем деревянном топчане.
— Это правда было? Или только приснилось мне? — спрашивала она, глядя на скошенный потолок, все так же белевший в лунном свете.
— Может, это был сон? Чудный сон? — спрашивала себя снова и снова.
Старая женщина сидела в мягком, глубоком кресле и неотрывно глядела на рыжего человека, дожидаясь, когда он заговорит, потому что каждый сказал уже хотя бы несколько слов, и женщина с потертым чемоданчиком, и девушка-солдатка, и другая, постарше, может быть, офицер, только он один молчал, понурив голову.
Ей очень хотелось подойти, расстегнуть его пиджак и посмотреть, есть ли под пиджаком номер, который оканчивается знакомыми цифрами.
Хорошо, если бы человек вдруг сам расстегнул пиджак: было жарко, тут, наверное, всегда жарко, в этом крае пустыни.
И еще он мог заговорить.
Ему же не весь язык вырвали, половину лишь, так что за столько лет он мог научиться говорить, у него было уйма времени. Не так ли?
Читать дальше