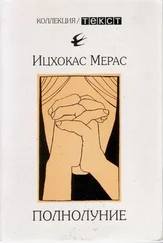— Я хочу тебя, Сара.
Он сказал:
— Доброго дня тебе, Сара.
31.
Солдат сказал и ушел.
Солдаты всегда уходят.
Они покидают своих женщин и уходят искать других. И если находят, то уже не возвращаются.
А может, это и хорошо?
Разве не благодать — почувствовать человеческое тепло?
Снова почувствовать, заново?
Она так чистила, терла плитку пола, что отчистила ее досуха. Не осталось и следа от темного пятнышка.
Но запах масла еще остался.
Она улыбнулась.
Может, это все еще пахнул пол, а может, ее одежда, впитавшая масло?
— Здравствуй, Сара, — сказала она.
А потом добавила — теперь уж солдату:
— И ты — тоже здравствуй.
Потому что в большом зеркале спальни отражалось окно, а за окном — кусок улицы, край песчаного пустыря и бассейн — серые бетонные стены с трубами и отверстиями и синеватое дно, полого стекавшее книзу, вглубь.
Там, в глубине, сухой, безводной, в самом углу, и устроился заступивший опять на службу солдат.
Он сидел на дне, широко раскинув ноги, привалившись плечом к углу, надвинув на глаза защитного цвета кепи и положив на колени солдатскую сумку с винтовкой.
Спал.
Видно, сразу уснул, сморило.
На краю бассейна, как два ангела-хранителя, сидели, свесив ноги, братья-близнецы с ведрами по бокам.
Сидели, не шевелясь, и глядели на солдата.
— Здравствуй, солдат, — сказала она.
Солдаты, вот и уходят.
Так уж водится.
Вот и в Судный день…
Странный шум нарушил тишину Судного дня.
Нет, не сирена. Сирена взвоет вдруг натужно, пробирая тебя насквозь, до самого нутра, но вскоре смолкнет. И после сирены снова тихо, а тут не было тишины, потому что приглушенный странный шум несся со всех сторон.
Негромко, словно нехотя, зашуршали машины, одна за другой, хоть им положено стоять и не двигаться в Судный день.
Но ведь то не машины были.
Может, радио?
И впрямь как бы радио включилось, хоть и ему положено было молчать в тот день. И тоже приглушенное, тихое, шелестящее, зашипело вдруг всюду радио — в квартирах, машинах, во дворах, но нигде не грянуло во весь голос, а все полушепотом, будто на ухо, по секрету.
А может, не радио это?
Шаги?
Действительно, шаги зашуршали по всей округе.
Шаги, шаги.
Приглушенные, шаркающие, словно ноги, которые плетутся еле-еле, не в силах согнуть колени, оторвать от земли ботинки, ползущие мерно, ровно.
Мужчины шли, и никто их не провожал.
Ни дети, ни женщины.
А если кто-то и вышел из дому вместе с ними, так не дальше, чем до угла, до конца двора, до первого перекрестка. И не разговаривали, молчали, ничего не желали друг другу, не здоровались, не прощались.
Может, потому и молчали, чтоб не прощаться.
Как на работу вышли.
День-то был святой, нерабочий, все по домам сидели, и вдруг всех на работу призвали, и все шли, как на работу, только с зелеными сумками в руках, в зеленой одежке только — вот и вся разница, только похожими, одинаковыми все стали, как близнецы, и много их, близнецов этих — считать не пересчитать; уходили солдаты из дому, провожаемые приглушенным тихим шарканьем.
Радио неустанно повторяло пароли-вызовы.
Но они и паролей не слушали, шли, зная, что уже называли их пароль, а если и не назвали, так назовут еще.
Йона не спешил выйти первым. Переоделся и ждал, пока сын ее, Шмулик пока не выйдет.
А она смотрела на сына и думала, думала что-то про себя.
Мужчины бросают жен и находят других.
Сыновья бросают матерей.
Почему?
Потому, что уже и они — мужчины?
Сыновья даже хуже мужчин.
Они бросают матерей, оставляют подруг, которым клялись в любви, которых целовали, ласкали по-детски, неумело, лишь пробудив их к жизни и не успев показать, что это такое, жизнь.
Она молча стояла у входа в кухню и смотрела на сына, дитя свое, зачатое ночью под деревом, на высокой дюне, на едва пробившейся травке, когда в небе светили луна и звезды и отражались две темных тропки, оставленных им и ею, когда шли в обнимку на самую высокую дюну, в ту ночь, когда она стала женщиной, когда заново родилась сама и, родясь на свет, зачала плод в своем лоне.
Шли солдаты, и сын ушел.
И не сын ее вовсе, а солдат в синей форме.
Свой?
Нет, не свой, а чужой совсем.
Ему нравилась эта синяя форма, с самого детства, еще когда отец рядом был, конечно. Синяя форма, как у отца. Еще бы!
Взлететь, вознестись над землей, сбежать, оторваться от матери. От матери, от земли, от дома.
Не свой, чужой.
Еще будучи у нее под сердцем и на свет не родившись, он вертелся, брыкался, бил изнутри кулачками ей в живот, желая вырваться — от нее, от матери, отделиться, оторваться, отдалиться.
Читать дальше