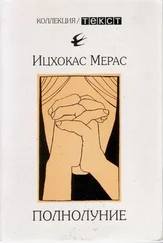Солдат откусил хлеба и принялся уплетать холодную яичницу с таким наслаждением, что она не могла удержаться от смеха.
Он не стал искать ни бокалы, ни рюмки. Придвинул стоявшие на столике керамические чашки, приготовленные для кофе, налил в одну красного шерри, в другую — виски, до половины.
Красную жидкость он наливал медленно, слушая, как булькает в бутылке. Прислушивался к этому сладкому бульканью, будто нет ничего интереснее на свете.
Себе же наливал, опрокинув бутылку, словно там не виски было, а пиво.
Налил и посмотрел на женщину.
А она все время смотрела на него.
Подбородок почему-то остался не выбритым, и на нем смешно топорщились разноцветные щетинки — черные, белые, рыжие, хотя голова и грудь были уже почти совсем седыми, только на висках волосы были потемнее. Но все шло ему: и седой бобрик, и черно-бело-рыжая щетина. Борода — если отпустит, подумала она, еще больше будет ему к лицу и отрастет, наверное, мягкой шелковой и до смешного пестрой, и можно будет запустить в нее пальцы, и погладить заросшие щеки, как взъерошенного котенка, и не будет такой жесткой, как сейчас, перестанет царапать лицо, и шею, и грудь. И не видны будут длинные следы порезов под нижней губой, долго кровоточившие и наконец запекшиеся, да и вообще не будет порезов этих, если отпустит бороду — в самом деле, ведь не придется бриться либо затупившимся, либо, наоборот, слишком острым лезвием, и не будет больше ни порезов, ни крови.
Он поднял свою чашку, предлагая выпить.
И она подняла свою и улыбнулась.
Хорошо было пить из толстых разноцветных глиняных чашек, не чокаясь, потому что со звоном чокались уже раньше, когда и бокалов-то в руках не держали, и до сих пор еще стоял в ушах тот хрустальный звон, тихо и нежно колебля окружающий воздух.
Она сделала первый глоток.
Пила маленькими глотками этот сладкий, вкусный вишневый ликер, и не важно было ни как он называется, ни где его раньше пила, потому что смотрела на солдата и видела его глаза — поблекшие, усталые. Но они улыбались, то расширяясь, то сужаясь под тяжело смыкавшимися и вновь размыкавшимися ресницами. Глаза оживились, заблестели, когда солдат в несколько глотков выпил свои полстакана виски, но тут же снова поблекли, сузились, и ресницы стали еще более тяжелыми, ленивыми — захмелел солдат.
Он тронул ее руку, лежавшую на столике, узкую, с длинными пальцами, заканчивавшимися розовыми, как у младенца, ногтями, и она сжала его пальцы — негибкие, с утолщенными суставами и обломанными ногтями, погладила их грубую, шершавую кожу.
Она приоткрыла губы, желая что-то сказать ему.
Ничего не сказала, но он, видно, понял.
Сонливость вдруг исчезла, глаза расширились и не мигая смотрели на женщину, а грубые пальцы стиснули ее руки — сильно, до боли, до онемения, но женщина не шелохнулась и не высвободила своих ноющих, немеющих рук из его корявых ладоней.
Конечно, он понял, потому что тут же отпустил ее руки, как бы застеснявшись, застыдившись чего-то.
— Хорошо у тебя… — сказал он.
— Хорошо?
— И светло…
— Светло? Что ты! Сейчас я все окна открою…
Она встала.
— Постой, — удержал он. — Потом… Подожди еще… Иди ко мне…
Она, должно быть, ничего не слышала.
Он же все время слышал радио — где-то, может, в соседнем доме, — и знал, который час, знал, что уже истекло их время.
— Иди ко мне… — повторил он. — Посиди еще.
Он усадил ее к себе на колени, сунул ей в руку чашку, налил туда ее красного ликера, а себе плеснул бледно-желтой шотландской водки, которая тоже пришлась ему по вкусу.
— Ну, будь здорова!
— Будь здоров! — тихо ответила она, поняв, что он уходит.
— Светло? Что ты! Сейчас я все окна открою…
— Солдат я. Жаль, но я — солдат, — сказал он и добавил: — Теперь иди. Открой окна.
— Да.
Она медленно открывала окна и слышала шаги — в одну, потом в другую сторону, к самой двери, — и будто щелкнул дверной замок.
Она открыла все окна.
Солнце хлынуло в дом, и все заблестело, засверкало, и она переходила из комнаты в комнату и улыбалась, радуясь свету, и только темное пятно в спальне смутило ее: на полу отсвечивала черная жирная капля масла.
Она нагнулась и принялась краем халата вытирать плитку пола, и терла до тех пор, пока совершенно не отчистила, и каменная плитка стала совсем сухой.
Тогда она встала, протянула руки навстречу самой себе, отраженной в зеркале спальни, и сказала:
— Здравствуй, Сара! С добрым утром!..
Солдат сказал:
Читать дальше