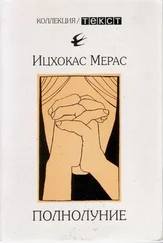Она тоже встала, и хрусталь, коснувшись хрусталя, зазвенел, как нежно тронутая струна.
— А где же музыка? Почему я не слышу музыки?! — воскликнула она.
— И я не слышу, — подтвердил он.
— Сейчас…
Она включила радио, но тут же выключила, потому что раздался резкий голос диктора.
Она поспешно включила магнитофон, а потом взяла первую попавшуюся кассету, и из всех четырех углов гостиной — из четырех динамиков — поплыла, окутывая комнату и заставляя трепетать огоньки свечей, труба Армстронга.
— Хосо Косо! — заскрипел немазаной глоткой покойный король. — Верный Гусар! Верный Драгун!
Верный драгун…
— Ну что… You make me feel like dancing… Кто это пел?
— He помню. Какая-то негритянка.
— Ну и?..
— Разумеется. Почему бы и нет? Я тоже хочу танцевать. Непременно. Танцевать с тобой.
Он обошел вокруг стола, остановился перед ней и отвесил поклон, смущаясь как мальчишка, а она поднялась со стула, и не хватало только, чтобы сделала реверанс, как было принято когда-то, в те времена, когда они были очень, очень молоды.
Хосо Косо.
Не надо было думать, как и что танцуешь, достаточно было танцевать и все, разгуливать под музыку. И, гуляя, хотелось медленно покачиваться из стороны в стороны, потому что так играл и пел своим скрипучим голосом негр с вдавленной верхней губой, похожей на полумесяц, Луи Армстронг, король без королевства, с круглым жирным лицом и выпученными глазами.
Он так и разгуливал, несмело обняв ее, пока труба не укачала обоих, и тогда он прижал ее к себе, и она легко подчинилась движению его левой руки, а он положил ее правую руку на свое плечо и обнял ее обеими руками, и она всем телом прильнула к нему, и они медленно шагали так, мерно покачиваясь, как этого требовал барабан, Хосо Косо.
Он удивлялся, что в наше время девушки так прижимаются, и ему нравилось, что это так, и хотелось танцевать, танцевать бесконечно, всю жизнь.
Ему действительно было хорошо, этому солдату.
Хосо Косо. Верный гусар.
Пир на весь мир.
Мейсенский фарфор.
Трепетные огоньки свечей.
Живые цветы и живые деревья на картинах, писанных масляными красками.
Музыка лилась беспрерывно, бесконечно.
Их пир был в разгаре.
Она обняла его.
Крепко-крепко обняла солдата, уткнулась лицом в его плечо и медленно, в такт музыке, плыла с ним по комнате.
Потом откинула голову, посмотрела ему в глаза и усмехнулась:
— Буду босиком!
Сбросила туфли, они отлетели к стене и остались валяться там, смешно уткнувшись, а она еще крепче обняла солдата и снова поплыла с ним по комнате, чувствуя босыми ногами ворс ковра и прохладные скользкие плитки пола, как в тот раз, когда танцевала одна, и тоже босиком.
21.
Тогда она тоже танцевала.
Они — не пятеро и даже не четверо, а только трое — нашли ее.
Зря она столько дней просидела в бараке, хорошо еще, что двойни приходили, не оставляли ее, одинокую, брошенную.
Она не заплакала, не закричала, когда, тихо прошуршав шинами, остановилась перед домом машина. Она давно ждала людей, которые вышли, осмотрелись по сторонам и обменялись неслышными словами, как бы желая лишний раз убедиться, что это именно та улица, тот дом, тот подъезд и та лестница, где живет она.
Нехорошо, когда сразу после войны останавливается у дома чужая машина.
Прислали б лучше письмо, открытку, бумагу какую-нибудь. Так не хотелось остаться с глазу на глаз с этими незнакомыми людьми, которые еще переминались с ноги на ногу внизу, хоть и знали уже, что это ее улица, ее дом.
Топ, топ — шаги, все выше, выше и все слышнее.
Остановились у двери, выждали.
И позвонили.
Впусти их.
Впусти, попробуй!
И войдут, и скажут, — и все.
А после этого, может, не сейчас, может, после, в другой раз, придут другие и передадут — клочок одежды или расческу, часы, фотокарточку, бритву или зубную щетку.
Или — ничего.
Она не заплакала.
Не заплакала, но и с места не встала; еще минуту или две сидела с закрытыми глазами, утонув в глубоком кресле, вытянув ноги, раскинув руки.
И хотела лежать и лежать так, не вставая, забыв обо всем и ни о чем не думая, чтобы так и кончилось все, закончилось и исчезло, и больше не быть, и ничего не знать, и не вставать, и не впускать их, этих людей, потому что — как же так?! Как это — был, столько лет был тут, рядом, возле, вместе был — и вдруг уже нет и не будет, будто не было никогда.
Она сидела так, сросшись с креслом, не шевелясь, еще минуту, две.
А за дверью — шаги, люди потоптались за дверью, снова позвонили.
Читать дальше