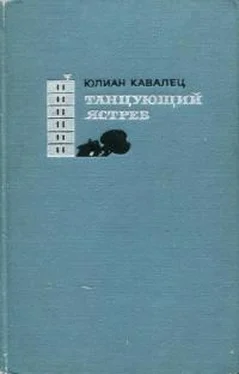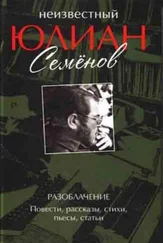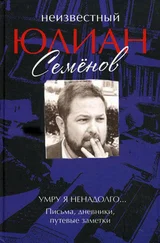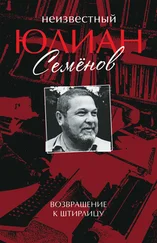Мне бы очень хотелось, чтобы мой зять лежал лицом к Катажине и обнимал ее. Но разглядеть я ничего не мог, темная ночь высветлила лишь сенную дверь да сени, в которых висела последняя отцовская рубаха. Куда они денут эту рубаху, когда станут вещи из дому выносить?
Хорошо помню, как выглядел отец в той рубахе; в поле, в жару он носил ее навыпуск, чтобы ветерком продувало.
Интересно, что бы сказал он нам, если б воскрес? Впрочем, я, пожалуй, знаю, что бы он сказал…
Мне послышался будто шепот: сестры или зятя? Да полно, с чего им шептаться, сестра-то сухая, как щепка, почудилось просто.
Но я был бы рад, если б это и вправду был шепот, уж очень мне хотелось, чтоб он ее обнял.
А что поделывает сейчас моя жена?.. Не спит еще, наверно. Сидит над чертежом моста или дороги. Лицо у нее бледное, обрюзгшее, с морщинками. Стареет она, как положено — с шеи, и, зная об этом, носит стоячие воротнички или крупные бусы. Войди я сейчас в дом, она оторвалась бы от бумаг и взглянула на меня.
На ней, наверно, легкий костюм цвета зрелой сливы, — она ждет гостей. А под костюмом — жесткое, холодное, лишенное любви тело; любовь покинула нас, осталась лишь пустота в двух скорлупках; она свою пустоту тут же заполнила голубыми чертежами и проектами мостов, а мне свою скорлупу чем заполнить?
Костюм тебе к лицу… Ты очень хороша в этом костюме. Высокая, по-прежнему стройная, хотя стройность твоя уже нуждается в таком вот ладно скроенном костюме цвета зрелой сливы. Да ты и сама это знаешь. При соответствующих нарядах фигура твоя сохранится надолго.
С лицом хуже, его не скроешь. Что поделаешь с мешками под глазами и с глубокими складками, которые, словно жесткие скобы, стянули твой рот? А с сетью морщинок на лбу? И под ухом, на границе щеки и шеи?
«Полно тебе по деревням бродяжить в поисках дома, — скажешь ты, — над тобой уж смеются…»
Ты-то зачем коришь меня? Тебе ли не знать, что в городе нет покоя? И в музее, где я работаю, тоже нет покоя, — шумиха по пустякам. А в деревне мне будет спокойно. Гнев патриархов рода скоро остынет, и я смогу наконец насладиться покоем в тихом саду. А тогда пойму, как приносить пользу.
Вот почему мне надо ехать на юг, — там больше деревень уцелело. Меня тянет на юг, а тебя — на север. Мы принадлежим разным сторонам света. Сын мой и внук тоже с севера. Вы трое останетесь на той стороне, а я переселюсь на эту. Пойми, не могу я остаться в городе. И не удерживай меня, позволь вернуться в деревню.
Впрочем, ты и не удерживаешь меня, только коришь за бродяжничество; ты спокойна, тебе удалось подавить свой крик. А вот я не умею заставить себя не скулить.
Если б воскрес отец по моему сыновьему зову: «Встань, отец мой, Винцентий!», он рассказал бы нам о бойне в далеком большом городе, о бойне, на которой он работал, чтобы скопить деньги на покупку земли. Рассказал бы нам, как идут на смерть животные. Как идет овца, как идет бык и как идет лошадь. Овца идет под нож бесстрашно, с достоинством, и тем самым одерживает верх над мясником, убившим ее. И мясник невольно вспоминает о достоинстве овцы, сравнивает ее с собой и в конце концов приходит к выводу, что он — мельче ее и характером слабее.
Случалось, — сказал бы нам отец, если б ожил, — что мясник отказывался резать овец; хватит, говорил он, сыт по горло, а это, по словам отца, означало, что мясник по горло сыт собственными поражениями и овечьими победами.
…Я вообразил себе: зять держит руку на высохшей груди моей сестры, а ногу положил на ее худые бедра; и сестру вообразил, лежащую навзничь. Очень мне хотелось, чтоб так было, потому и вообразил.
…Если б ожил мой отец, он рассказал бы нам, в который уж раз, как идет на смерть бык. Бык делает под себя и плачет, как дитя малое; раскорячив ноги, он упирается, брыкает, и мясникам нравится убивать быков; ведь рядом с ними он, мясник, чего-то стоит. Мясник охотно убивает быка, не вынося детской его натуры, и тут же забывает о своем убийстве.
…Ночь стояла темная, даже окна едва вырисовывались и не было никакого просвета, чтобы я мог увидеть, как лежат сестра и зять. Кабы не только днем, но и ночью значили что-то ее высохшие груди, тощие ноги, длинные, исхудавшие руки, и ладони лопатами, и всклокоченная голова, и некрасивое, раздраженное лицо.
Я страстно желал, чтобы моя пятидесятилетняя сестра способна была бы ночью не только спать. Мне тоже хотелось иметь какой-то козырь против сестры, которая носится со своей худобой и уродством, безраздельно отданная хозяйству, сну и будущей смерти. Я, получивший образование и ступающий по мостовой большого города прежде всего благодаря ее труду, труду родителей (брат был чахоточный, он не в счет), хотел иметь козырь против сестры.
Читать дальше