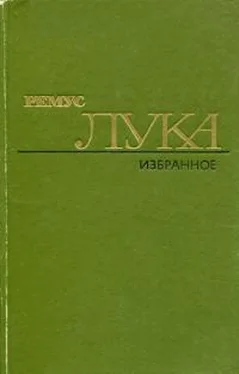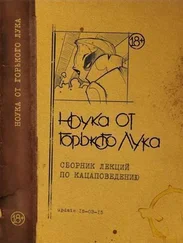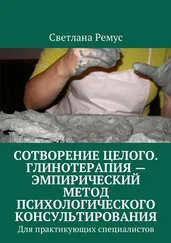— Тоадер, — произнес наконец Хурдук, — я рад, что тебя выбрали… — Он сказал о радости, которая таилась где-то в глубине души, но его колючее, смуглое лицо осталось таким же суровым; так, глядя на скалу, нельзя догадаться, что в глубине ее клокочут теплые ключи.
— И я тоже, — просто отозвался Тоадер.
Они снова замолчали, как молчали лес и воздух, как молчал хутор, погруженный в глубокий сон. Но под молчанием и покоем этой зимней ночи лес скрывал под корою деревьев неустанное движение соков к ветвям, неподвижный воздух неуловимо, тайком распространял сырой запах приближающегося снегопада, а сон хутора таил в себе горячие объятия молодых супругов, тревожные сновидения подростков и невинный покой уставших от игр детей. От этой безграничной тишины и покоя завтра должны были родиться и бури в лесу, и страсти молодых, и мудрость стариков. Янку и Тоадера тоже околдовала эта тишина, хотя потаенные мысли и не оставляли их.
— А мне, Тоадер, понравилось, как ты сказал, что речь-то, дескать, идет о счастье народа; прямо в точку попал… Вот я и думаю, что и это осуществится.
— Я тоже так думаю.
— Значит, теперь мы их выгоним вон.
Тоадер несколько минут помолчал и с мрачной решимостью ответил:
— Выгоним!
Услышав его голос, Хурдук спросил:
— Тоадер, а ты вроде и не рад…
— Я рад, Янку, — сумрачно отозвался тот.
— Только радости большой по тебе не видно.
— Радость, она разная бывает, братец. Застелет тебе глаза чем-то, а минует, поймешь, что это-то и была радость, только времени не хватило ей порадоваться…
— Боишься ты, что ли?
— А чего бояться?
— Мне откуда знать… Больно быстро ты переменился. На собрании и щеки у тебя горели, будто у жениха, и про будущее и про счастье народное ты говорил, и улыбался, словно хватил немножко… Я даже удивился, ведь ты вовсе не разговорчивый…
— А теперь снова удивляешься…
— И правда, удивляюсь.
Тоадер тихо засмеялся, при лунном свете на мгновенье блеснули его белые зубы. Но это был невеселый смех.
— Янку, дорогой, знаешь, о чем я думаю? — проговорил он, уже не скрывая озабоченности. — Думаю я, что непросто будет выгнать их вон.
— Само собой, непросто.
— Сказать-то было легко, а вот сделать…
— Трудно! А кому иначе кажется, будет тому баня.
На сей раз Тоадер смеялся долго и весело.
— Ну и скажешь ты, Янку…
— А то как же? — И Янку тоже засмеялся, сдерживая свой рокочущий бас — Погоди, все обойдется…
Они пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, улыбнулись и разошлись: Хурдук шагнул к низенькой калитке в плетне, Тоадер Поп стал подниматься по дороге, что вела на другой конец хутора.
2
Хурдук остановился перед дверью в сени, прислушиваясь к тишине. Где-то далеко-далеко запел петух и замолчал, будто его спугнули; торопливо и нестройно заголосили хуторские петухи, словно хотели поскорей отделаться от своей обязанности и снова заснуть.
В козьем сарайчике зашевелились — наверное, старый козел, раздумывая о минувших временах, задвигал челюстями, пережевывая жвачку. Порыв ветра на минуту взбудоражил лес, и снова все погрузилось в сон.
Хурдук, как обычно, отправился в обход своего маленького хозяйства. Две огромные, лохматые собаки вертелись вокруг него, виляли хвостами, лизали ему руки. Хурдук шел не спеша, нагнулся, что-то поднял с земли, прикрыл висевшую на самодельных кожаных петлях калиточку, что вела в сад, постоял у свинарника, послушал, как тяжело пыхтит свинья.
Сухой, резкий воздух бесснежной зимы покусывал щеки, щипал глаза, но Хурдук ощущал это как давно привычную ласку, которая успокаивала его и приводила в хорошее настроение. Воздух этот спускался с гор и приносил с собой давние воспоминания юности о сочных, цветущих лугах, об овечьей отаре с бубенчиками, что негромко позвякивали среди горной тишины, о злых псах, старом сером осле, об овечьем загоне на полянке, где ожидала Хурдука молодая белокурая неугомонная жена. В ту пору он знал счастье только там, на горном пастбище, и продолжалось оно всего несколько месяцев в году. Осенью овцы спускались с гор и зимовали на широком дворе, за высоким глухим забором, у Теофила Обрежэ, хозяина этой отары и старого серого осла. Хурдук оставался с женой в лачуге на хуторе, где две злые овчарки, которым нечего было стеречь, лаяли по ночам только для того, чтобы не забыть собственный голос. Зимние ночи и дни текли медленно, оставляя на душе тяжелый осадок скуки, как остается ил на полях после наводнения; тогда рождались дети, принося с собой новые заботы; тогда, выходя из своей лачуги, он ждал, с беспокойством, что огромные сугробы и жестокий мороз навалятся и раздавят его хату.
Читать дальше