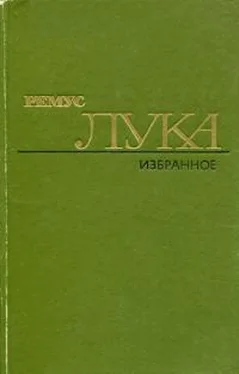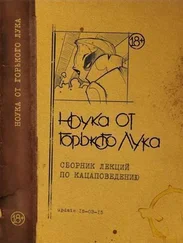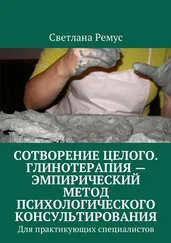Когда Тоадер кончил говорить, на улице уже смеркалось, за окнами белели бесконечные заснеженные поля с синими вечерними тенями. В темной комнате было тихо. Если бы не дыхание, изредка прерываемое тяжелым вздохом, то шестеро сидевших вокруг стола казались бы каменными изваяниями.
Тоадер повременил несколько минут, размышляя, и все так же сдержанно и сурово, как говорил до сих пор, произнес:
— Товарищи, все это мы должны объяснить людям и выгнать кулаков как можно скорее.
— А-а! — вдруг весело, словно у ребенка, вырвалось у Пантелимона Сыву. Он вскочил во весь свой огромный рост и, как мельница крыльями, замахал руками, но, спохватившись, что находится на собрании, покраснел, как свекла. Однако не мог удержаться и пробормотал, шумно переводя дыхание: «Хорошо! Пришло времечко!»
Ирина успокоилась. Ее отчаяние, которого никто, правда, не заметил, прошло. Она напряженно ждала, что скажут другие, чтобы за это время самой собраться с мыслями, как всегда делала на собраниях. Испуг и отвращение, какие она почувствовала, когда словно провалилась в яму, где шипели и извивались змеи, уступили место волнению: среди врагов коллективного хозяйства она услышала имя Флоари. С детских лет она питала к ней любовь, смешанную с тайным восхищением, какую часто питают некрасивые и незаметные девчонки к взрослым красивым девушкам. Флоаря была старшей дочерью Макарие Молдована. Многочисленный этот род славился красивыми и работящими женщинами, но Флоаря всех превзошла своей красотой. У тринадцатилетней Иринуцы не было большей радости, чем расчесывать длинные, густые черные волосы Флоари и помогать ей одеваться по воскресеньям утром в праздничные платья, перед тем как отправиться в церковь. Беспокойной, смешливой девчонке казалось тогда, что частичка этой красоты принадлежит и ей. Привязанность, зародившаяся в возрасте, не ведающем зависти, превратилось потом в жалость к Флоаре, выданной замуж за нелюбимого человека. Ирине было уже шестнадцать лет, она многое стала понимать и пугливо сторонилась взглядов Илисие Колчериу. По вечерам она прибегала к Флоаре, испуганными глазами смотрела, как та рыдает, и молча проливала вместе с ней слезы. От этой жалости Ирина не избавилась и до сих пор.
Для Флоари же Ирина была одной из многочисленных девчушек, которые ходили за ней по пятам, копировали ее походку, манеру повязывать платок и вплетать в волосы ленты.
За эти короткие мгновенья в душе Ирины зародилось смутное, но на удивление упрямое желание помочь Флоаре избежать беды, она жалела ее даже за то, что та стала кулачкой.
Беспокоило Ирину собрание, которое должно было вскоре состояться. Оно начало ее пугать, как только она поняла, насколько опасно положение Флоари. Здесь всего семь человек, и то неведомо, кто и что скажет, а там будет несколько сотен. Кто может заблаговременно знать, что они подумают, как поступят? Тоадер любил Флоарю, а теперь говорит о ней с ненавистью, сына ее называет волчонком. Может быть, парень и придурковатый и никудышный, но зачем так называть его?
Ирина прилагала все усилия, чтобы успокоиться. Ион Мэриан все мрачнел и нервно теребил закрученные кверху усики. Губы его подрагивали, словно не решались дать дорогу словам. Наконец Мэриан поднял руку и произнес своим красивым голосом первого деревенского запевалы:
— Я попросил бы слова.
Ирина одобрительно кивнула.
— Я хотел бы спросить… — начал он и замялся.
— Товарищ секретарь, — продолжал Мэриан не совсем уверенным тоном и как-то чересчур официально, — многое рассказал нам, и все это правда. Мне стало понятно, что мы должны выгнать кулаков из нашего коллективного хозяйства. Я понял все, одного не понял: обо всех секретарь говорил или не обо всех? Боблетек, сноха Обрежэ, Иоаким Пэтру, они все кулаки, я не понял, или не все…
Запутавшись, он замолчал. Остальные тоже молчали, не понимая, что ему нужно.
— Может, что про них неясно? — спросил удивленный Тоадер.
— Все ясно, только я не понял и хотел спросить: разве Иоаким Пэтру кулак? Он же середняк, а в хозяйстве у нас и еще середняки состоят, и я тоже…
— Как это Пэтру середняк? А мельница?
— Мельница тестю принадлежала. Потом братья жены его выгнали. Говорят, завещание недействительное было. Споили старика, он и написал. Он даже судился. А потом мельница государству отошла, национализировали.
— У него еще молотилка и веялка были.
— Это не его, а жены.
— Хрен редьки не слаще, не чертова мать, так чертова бабушка! — воскликнул Филон Герман.
Читать дальше