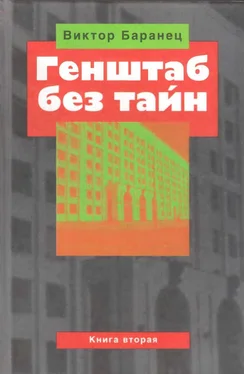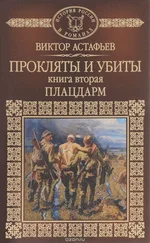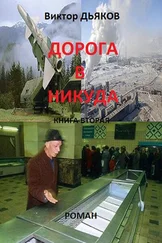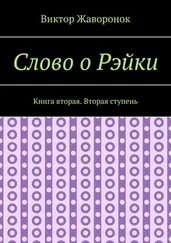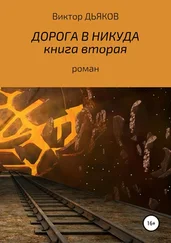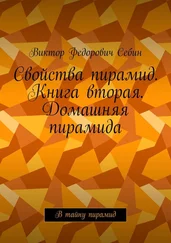Минобороновские финансисты рассчитали, что на первых порах для нашего участия в операции необходимо изыскать 78 млн долларов (техническое обеспечение, прогон и использование техники, горючего, амуниции, пищевого довольствия). Еще 20 млн необходимо было для того, чтобы платить жалованье личному составу (почти 2000 человек). Когда же этот вопрос обсуждался в парламенте, Комитет по обороне представил совсем другие расчеты: в 1996 году, по его мнению, на содержание нашего миротворческого контингента потребуется 109,5 млрд рублей и 18,8 млн долларов США.
Наши контрактники, служившие в Югославии под флагом ООН, получали по 860–960 долларов в месяц. А их соседи, «голубые береты», скажем, из Франции и Бельгии, получали по 3000 долларов. У наших бойцов была скрытая зависть к коллегам. Но люди не роптали — 800 долларов для наших военнослужащих были довольно большими деньгами. «Обчищая» таким образом своих миротворцев примерно на две тысячи долларов в месяц каждого, правительство погашало государственные долги ООН, из которой и финансировались операции.
И хотя из правительства в начале января 1996 года просочилась в прессу информация о том, что деньги для наших десантников найдены в военном бюджете, то была липа. Статья в военном бюджете, по которой финансировалась деятельность российских миротворческих сил за рубежом, была мизерная, тех денег не хватало даже на содержание 18 тысяч наших миротворцев на территории СНГ.
Министерство финансов РФ, в свою очередь, официально сообщило, что «вопрос еще не прорабатывался». Из источников в том же Минфине стало известно, что правительство, дескать, намерено обратиться за помощью к частным структурам с просьбой делать пожертвования в виде валютных переводов на специальный счет в Сбербанке. Мне очень захотелось увидеть того коммерсанта, который принесет в Сбербанк 100 тысяч долларов и объявит, что он безвозмездно жертвует их в пользу российских десантников.
* * *
В середине декабря 1995 года посол России в США Юлий Воронцов проинформировал Москву о расстановке сил в американском Конгрессе в связи с отправкой миротворческого контингента на Балканы. Судя по содержанию его информации, он цеплялся за какие-то юридические и политические противоречия в отношениях Клинтона с парламентом по балканскому вопросу и намекал, что следует сыграть на них.
Шла мелкая дипломатическая возня, которая не могла существенно повлиять на улучшение наших позиций на Балканах.
А вероятность того, что группировка международных миротворческих войск в Югославии (фактически войск НАТО) сумеет и без нас добиться успеха, была очень высокой. И это неизбежно давало в руки США и руководства Североатлантического альянса мощный аргумент в пользу того, что именно этому союзу «по зубам» самые сложные проблемы миротворчества, и таким образом, дескать, ничего страшного в продвижении «гаранта мира и стабильности» на Восток нет. Следовательно, все вопли некоторых политических сил в России об «угрозе» НАТО беспочвенны. И если Россия действительно хочет стабильности, ей-де место в НАТО.
Но все эти маленькие и большие хитрости легко читались аналитиками Генштаба. Видели их и в Службе внешней разведки. Ее директор Евгений Примаков в очередной раз заявил, что расширение НАТО на Восток невыгодно России, что «в случае присоединения к Северо-атлантическому альянсу восточно-европейских стран, в непосредственной близости от западных границ РФ могут быть размещены ракеты с ядерными боеголовками, с небольшим подлетным временем к жизненно важным объектам нашей страны». В том же ключе неоднократно высказывался начальник Генштаба генерал Михаил Колесников.
Наши силовики все чаще отваживались самостоятельно формулировать принципы отношений России с НАТО и таким образом вторгались в сферу международной политики. Происходило это, на мой взгляд, потому, что Кремль в течение длительного времени так и не смог дать Минобороны и Генштабу четких директив относительно того, какой линии придерживаться. Нередко можно было видеть обратное: с подачи высшего генералитета президент озвучивал позицию России в отношении НАТО, что явно указывало на «управляемость» Ельцина со стороны военных. А потом и вовсе наступил период, когда эта проблема была «отдана на откуп» министру обороны, который начал действовать без оглядки на МИД. Это и вызывало раздражение у руководства внешнеполитического ведомства.
Андрей Козырев в конце 1995 года стал говорить о непоследовательности Министерства обороны, упрекая Павла Грачева в том, что он во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе высказался якобы за «слияние» Североатлантического блока и Вооруженных сил России.
Читать дальше