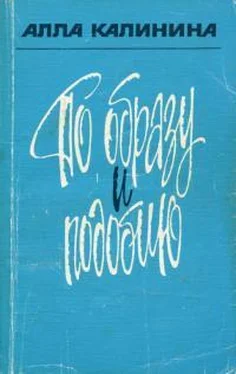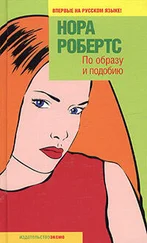— Можешь идти есть, — наконец сказала она, сказала холодно, не повышая голоса, она не сомневалась, что я ее услышу, как никогда не сомневалась в том, что она мне гораздо нужнее, чем я ей. Есть не хотелось, но я встал и потащился на кухню. Мне непонятно было, как она умудрилась обидеться там, где ею были оскорблены и обижены другие. Но не это ее волновало, нет, ее потрясало мое отступничество, глубоко задевала мысль, что я (я!) вдруг воспротивился ее решению, тому, что она считала лучше и правильнее для меня. Как я смел?! Не Симой, не остальными была она возмущена, что ей было до них, — мною! Я смотрел на нее и поражался, в каком же страшном рабстве я жил! Но ведь это рабство и было ее любовью ко мне, властной любовью сильного человека к легкомысленному и слабому. Это ведь я только хорохорился прежде, но как же ей легко было помыкать мною, все решать за меня! Это из-за нее я до сих пор не женился, конечно же из-за нее. Зачем мне было жениться, ведь она так незаметно, так привычно и легко заменяла мне семью, смотрела за мной, стирала, кормила, ухаживала и ничего не просила взамен, ничего, кроме того, чтобы я был хорошим, то есть покорным, сыном. Так вот что я, оказывается, представлял собою — послушную, бесхребетную веселенькую зверюшку, которая резвилась на коротком поводке, но всегда вовремя возвращалась к своей мисочке. И это я еще вчера поучал Валентина, своего гордого, самостоятельного брата, как надо правильно жить? Непостижимо! Воистину, в чужом глазу видишь соломинку, а в своем бревна не замечаешь. Я выпил чаю и поднялся.
— Чем ты недовольна, мама?
— Я довольна всем.
— Ты не хочешь со мной говорить? Глупо. Объясниться нам все равно придется, не сегодня, так позже, нам надо жить, а прежняя жизнь уже не вернется, это я тебе обещаю. Больше я не буду поступать по твоей указке, ты употребила мое доверие мне во зло. Теперь, конечно, уже ничего не вернешь, но дальше все будет по-другому, мама. Ты меня слышишь?
— Да, я слышу тебя, только совсем не узнаю. Что они сделали с моим сыном? Вот от этого я и пыталась тебя уберечь. Не смогла!
— Еще как смогла! Но я ведь не только твой, мама, я еще и свой собственный. Эти ужасные «они», ничего они со мной не делали, просто рассказывали мне правду, кто что знал. И я им благодарен за это. Нельзя вечно жить во лжи, понимаешь? Может быть, я потому такой равнодушный был прежде к информации, что чувствовал — все вранье. А правда — это совсем другое, она меняет, оживляет душу, к ней нельзя быть безразличным. Я слушал и принимал решения, сам, никто не учил меня и не наставлял: «Не слушайся, мальчик, маму», но как же я мог простить тебе, что вся наша жизнь была ложью, что я не знал ни имени своего, ни фамилии, что рос без роду и племени? Кто в этом виноват, скажи?
— Какая прекрасная мелодрама, Юра! Поздравляю, ты делаешь успехи.
— Но как же ты можешь, ты, женщина? Такой цинизм…
— Цинизм, ты говоришь? А твоя инфантильность, разве она лучше?
— Это ты меня сделала таким!
— Бедный ребенок! И не стыдно тебе выговаривать это? В твоем возрасте! Да ты давно обязан был быть мне опорой, взрослым, надежным человеком! А ты? Даже жениться и то не сумел. Да, я не одобряла твоих увлечений, но что это были за увлечения, ты только вспомни!
— Я вспомнил, ты права, ничего я не потерял, это были не те женщины, и не о ком мне особенно жалеть. Но признайся, тебе это тоже было на руку, правда? Тогда ты не обвиняла меня в инфантилизме, сегодня я услышал это от тебя впервые, теперь, когда начал наконец взрослеть. Вот и слава богу, мама, хоть в этом-то мы с тобой сошлись, взрослеть было давно пора. Кстати, я уже нашел себе и невесту, осенью женюсь. Наверное, я перееду к жене, все упростится.
— Кто же она, если я достойна знать?
— Это Лилька, мама, Лилька, которая известна тебе сто лет.
— Так. И что же вдруг за озарение на тебя сошло? Такая серенькая девушка…
Я засмеялся:
— Не выйдет, мама, поздно, теперь это уже не пройдет, я больше никому не позволю руководить моими чувствами и поступками.
— Какая смелость! Неужели ты думаешь, Юра, что, нахамив матери, становишься более мужественным?
— Я не хамил тебе, мама. Да и вообще, извини меня, при чем здесь ты? Ведь это я женюсь, я. И вообще, будь поосторожней в характеристиках. Валентин очень правильно сказал мне: то, над чем человек однажды посмеялся, навсегда погибло в его душе, это уже нельзя спасти. Стоит ли выпускать на волю слова, о которых потом пожалеешь?
— А что мне еще остается? Я столько всего услышала сегодня, что, кажется, мне уже нечего терять. Кстати, Валентин — это сын той женщины?
Читать дальше