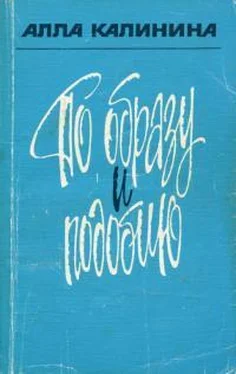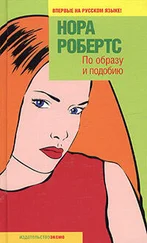Мы уже подъезжали к Москве. Несколько раз я ловил на себе осторожный косой взгляд брата, но он тут же отводил глаза, мы оба молчали.
Только выйдя из машины, я почувствовал, как еще душнее, просто невыносимо стало в городе. Ветер упал совершенно. Казалось, каменные стены излучают влажный тяжелый жар, ничего не шевелилось вокруг, и рубаха у меня на спине сразу взмокла, и жгучие капли выступили на лбу. Я поднялся к себе в квартиру, разделся и сразу же залез под душ. Но это не помогло. После холодной воды густой зной в квартире казался еще плотнее, еще безнадежнее. Я высунулся в окно. Тучи опустились ниже, слабые зарницы вспыхивали где-то далеко, за краем города, и какой-то странный желтый свет разливался вокруг. Во всем было ожидание грозы, но ожидание мучительное, бесконечно долгое, которому, казалось, не будет конца, как не было конца моим метаниям и сомнениям. И я представил себе, какая меня сегодня ожидает ночь, и жалко струсил, и впервые за всю свою жизнь достал из тумбочки мамину аптечку в большой пестрой жестяной коробке, порылся в ней и проглотил сразу две таблетки. Потом я долго лежал в горячей душной постели, откинув одеяло, уставившись глазами в потолок и жадно призывая сон. Я боялся завтрашнего дня, я мечтал, чтобы время провалилось в тартарары, исчезло совсем и чтобы я проснулся уже потом, после. И тогда я очнусь опять легким прохладным утром, молодой и счастливый, и буду жить дальше и постараюсь, изо всех сил постараюсь быть хорошим.
Когда мы с Валентином приехали в морг, там уже был кое-кто из наших, но ведь мы приехали заранее, а люди все подходили и подходили. Конечно, толпой это было назвать нельзя, а все-таки народу было многовато для скромных семейных похорон. Почему же их всех собрала сегодня вокруг себя наша бедная Сима, всегда жившая так замкнуто, одиноко, тихо, в стороне от всех, оторванная от жизни своими болезнями, хромотой, нелегким характером? Что привело их сюда? И вдруг я понял что — долги, долги! Все они ей задолжали, пусть по мелочи, по пустякам, за вовремя сказанное слово, за рублик, сунутый в кулак, за открытки к каждому празднику, на которые некогда да и незачем было отвечать, да мало ли еще что? Старших, которым она помогала всерьез, почти уже не было здесь, а дети, что они могли помнить? Наверное, каждому здесь она вытирала когда-то нос, заплетала косички, совала в ротик ложечку с жидкой кашкой. Вряд ли они сейчас помнили об этом и все-таки испытывали томительное, тоскливое чувство долга, которого больше никогда не смогут заплатить, только сегодня, в последний раз. Из-за жары, из-за по-летнему пышного зеленого убранства двора сборище наше не выглядело траурным, только в лицах было что-то растерянное, странное, нет, не горе, что-то другое, что и на похоронах не часто можно увидеть, — может быть, муки нечистой совести? Приехала Мила со всей семьей, дядя Миша с трудом выкарабкивался из машины, в голубой навыпуск рубашке с карманами, в соломенной шляпе и с палочкой. Он сразу прошел в центр толпы и встал, опустив голову на самом солнцепеке, он не ощущал жары, последнее время ему всегда было зябко. Многочисленные племянники и внуки подходили к нему здороваться, он отвечал коротко, вяло, глядел вниз, переминался с ноги на ногу. Кто-то принес ему стул, и он сел, все так же опираясь руками на палку. Я смотрел в измученные духотой, распаренные лица, очень многих я не знал, но догадывался, что это наши. Однако не до них мне было сейчас, любопытства больше не было во мне, устал я от всего этого, даже думать не хотелось о новых знакомствах. Но мне кивали со всех сторон, и я кивал. В стороне стояла совсем маленькая группка — соседки, подруги по прежним работам — и отчужденно с изумлением смотрели на нас, откуда нас столько взялось и где мы были раньше. Наконец в дверях появился Валентин, какой-то весь поблекший и взмокший; он коротко кивнул, и все тотчас, толпясь, потянулись внутрь. В сумраке крохотного обшарпанного зальца, больше похожего на грязную прихожую какого-нибудь склада, после яркого солнца было особенно темно, я почему-то торопливо проталкивался к Симе, словно мне могло не хватить этого зрелища, словно я мог к нему опоздать. Но то, что я увидел, вдруг остановило, поразило меня. Она была другая, совершенно другая! Бронзовое разгладившееся большое лицо лежало на белой подушечке, оно было не просто спокойно — величественно, почти красиво. Ни разу при жизни не сумела подняться Сима до этого своего облика, ни разу, только теперь она достигла его и лежала такая удовлетворенная, такая достойная и суровая, что я невольно подумал: «Слава богу, наконец-то я узнал ее, ведь такая она и была бы, если бы мир признал ее и если бы сама она не суетилась попусту, — строгая, мудрая, уверенная в себе старуха. И вся она была уже укрыта цветами, принесенными ей, всеми позабытой бедной родственнице, от богатой и современной родни. Все стояли молча, плотным кольцом, не до речей нам было, да и что мы могли ей сказать, кроме единственного слова «прости». Но ради него не стоило и разлеплять туго сомкнутые губы. Все мы думали одно и то же.
Читать дальше