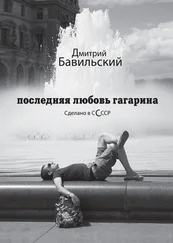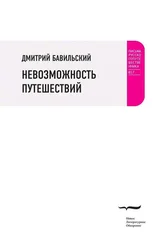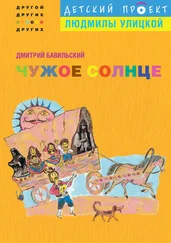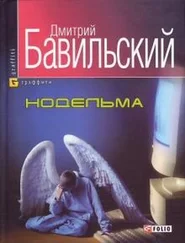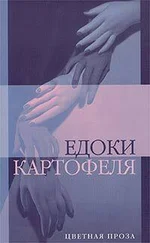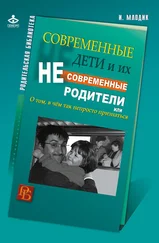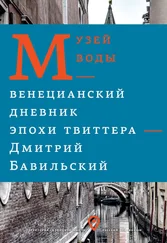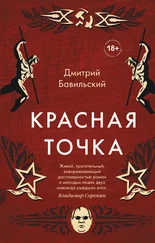Здесь же, анализируя затеянную им некогда совместно с В. Дубичевым книжную серию «Третья столица», В. Курицын касается сомнительности самого жеста со-противопоставления: «Был пафос: мы тоже есть… о том, что мы есть, приходилось сообщать кому-то другому (чем подтверждалось, что вне внимания со стороны этого другого… нас, собственно, и нет). «Вопрос самоощущения: Питер — сам себе столица (вовсе не вторая); рижские литераторы считают для себя центром… Балтийское море (дискуссия «Есть ли здесь русская литература». — «Рижский альманах», 1993, кн. 2). С Уралом, казалось бы, сложнее. Однако существует принципиально маргинальная «Уральская новь» (творение тех же Н. Болдырева, В. Кальпиди, Д. Бавильского и др.): не в качестве показательного выступления или «атаки центра», а «именно для местной надобности» (Д. Бавильский). Замечательная, подобно «Роднику», «Митиному журналу» и журналу «Ё», тем, что, не провоцируя на сопоставление с «толстыми журналами», среди журналов «новой волны» выглядит вполне своеобразно. «Несовременные записки» проигрывают прежде всего на этом фоне. Журнал интересен исключительно «по краям»: трезвыми размышлениями В. Курицына, пристрастными обзорами Д. Бавильского и комментариями В. Кальпиди к прозе Ю. Кокошко, пафос которых (проза хороша, ибо «не прочитываема в принципе») разделить трудно, но разделять, в общем, и не требуется: комментарии в (не опечатка, так в журнале) В. Кальпиди — искусство для искусства, какая разница что доказывать. Можно бант завязать на луне… «Центр» номера необъятен и безжизнен. Сделанные по точным выкройкам, стихи, однако, не дотягивают да эталона — стихов Парщикова, Жданова и Ерёменко; ровно как и проза — до прозы Борхеса. Остаётся надеяться, что это только первый блин комом — «и если мы доживём до седин, мы сыграем, как «Deep Purple» и «Zeppelin». А пока что не беда, это не беда…» Я не вырывал цитат из целого, не обрывал ничего и нигде, всё полностью соответствует оригиналу. Между тем, что́ мы, предположим, ни разу не видевшие «неизвестный журнал» можем по прочтении этих скромных заметок (а какова их цель? познакомить, конечно), сказать? Мысль рецензента мечется, перескакивая с одного на другое, не доводя ни одно размышление, ни один концепт (их здесь попросту нет) до конца.
Во-первых, никто никого никому не противопоставляет и никуда себя не вписывает. «Вавилонская библиотека» — рубрика информационная, и ничего кроме как поставки своим землякам нужных (в ситуации рыночного дефицита) сведений, я (мы) не преследовали. Здесь — важнее адреса и телефоны, возможности подписки, а не тщеславное тщеславие. Тем более, если внимательно (sic!) прочитать обзор, то можно заметить наличие в хит-параде публикаций из совершенно разных «лагерей», от «Нового мира» и «Знамени» до «Митиного журнала» и «Комментариев». Вторых, может быть, меньше из-за меньшей их доступности для читателя.
Во-вторых, неподкупно, сурово и резко осмысливая в «толстом журнале» «изящную словесность» не-толстого «новодела», г-жа Кузнецова как-то отрицает и за нами тоже адекватность (суровость и резкость) в оценках печатаемых в «центре» экзерсисов. Повторюсь. Читателю нужна адекватная информация, но не «атака», не «противопоставление» (чего противопоставлять-то? Литература-то нонче одна-одинёшенька. Спросите об этом Наталью Борисовну Иванову, она объяснит).
В-третьих, помимо традиционного «исторического подхода», методологической корректности ради, нужно, видимо, учитывать ещё и «географический фактор»: мы имеем то, что имеем, пытаемся выявить-сохранить данную нам данность. Чтобы использовать её как отправную точку для дальнейшего развития, как некий катализатор, ускоряющий замедленные (что есть, то есть) реакции. Для того молодняка, который вот-вот подтянется. Вот и нужно, чтобы пришёл он не на пустое место.
Поэтому, в-четвёртых, «НЗ», как ни один другой («процесс(!)-журнал»: читайте усердней), и приспособлен для «внутреннего употребления». Тогда как, скажем, «Уральская новь» приглашением многочисленных варягов (от Парщикова до Рыклина или Микушевича) сознательно строит себя на сопряжении местного и общекультурного контекстов (у Кузнецовой всё наоборот).
В-пятых, никто никаких мифов (словечко, конечно, модное) не создаёт. Просто люди пытаются определиться с тем местом, где живут. Это место не сочиняется, не мифологизирутся, но, может быть, в первый раз реально очерчивается (если внимательно читать эссе первого раздела, то становится очевидным, что все они вызваны к жизни именно что попыткой деконструкции каких-то архаических, примитивных штампов общественного сознания, типа «урал — опорный край державы…», стремлением нащупать естество, органику), осмысливается на должном уровне.
Читать дальше