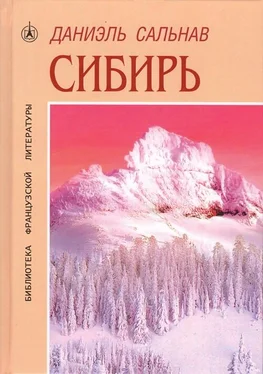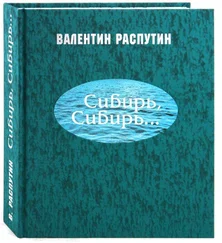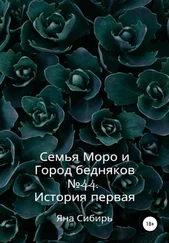На этой иркутской улице, пропитанной запахом акации, возле ресторана, где я собираюсь позавтракать, я очень далека даже от подозрения, что между Маратом и Россией существует какая-то другая связь. Я путешествую в полном неведении! Я вижу (или думаю, что вижу), но, оказывается, ничего не знаю. Меня окружает только сладкий запах цветущей акации… Эта связь — младший брат Марата Давид. Я довольно случайно узнала о его существовании, разыскивая сведения о старшем. Отсюда и начал разматываться клубок…
Приехав из Женевы в Петербург с русским графом, который подыскивал воспитателя для своих детей, Давид Марат пробует стать промышленником, возвращается к преподаванию, пишет на русском французскую грамматику и становится преподавателем литературы в императорском Царскосельском лицее. Такой же некрасивый, неопрятный и небрежный, как и его брат, но любезный, умный, галантный, он проторил себе дорогу в Санкт-Петербург. В 1793 году после казни своего брата Давид Марат находит более осторожным сменить имя и становится «Давидом де Будри», фальшивым аристократом по названию своей родной деревни. Но, как замечает один биограф, «он не прекращает распространять республиканские идеи среди учеников, выходцев из аристократии».
Эта фраза все развязывает. Возникает гипотеза, да и даты более-менее подходят. Давид Марат умер в 1821 году, несколькими годами ранее восстания декабристов в 1825 году. И нет ничего невозможного в том, что кто-нибудь из декабристов десятью-пятнадцатью годами ранее являлся его бывшим учеником в императорском Царскосельском лицее. Не явилось ли его «либеральное» преподавание в политическом смысле этого слова причиной их приверженности к идеям французской революции? И не оно ли их толкнуло в 1825 году на это безумное предприятие, так плохо подготовленное, за участие в котором их ждала смерть, или тридцатилетняя высылка в Сибирь?
Ознакомление со списком арестованных и приговоренных декабристов делает мою гипотезу вполне правдоподобной: Вильгельм Кюхельбекер и Иван Пущин, два молодых поэта, которые в 1825 году будут участвовать в этом восстании против Николая I, учились в Царскосельском лицее. Не здесь ли недостающее звено? Страсть к свободе и демократии, воспламененная уроками Давида, младшим братом Марата. Иван Пущин был другом и одноклассником Пушкина, который не участвовал в восстании 1825 года, так как находился тогда в опале в своем селе Михайловское.
Оставим это, если можно, хотя бы на время, русскую революцию, французскую революцию и не будем больше возвращаться к вопросу об их связи. Он проливает свет на обоих, но так и не разгадывает загадку ни одного, ни второго… Возвратимся на иркутскую улицу, к ее июньскому свету и пыльце деревьев и цветов…
14 часов 30 минут. Опять небольшая группа, выбравшая посещение университета, опаздывает. И, как назло, я теряю шариковую ручку. Я задерживаюсь у входа возле киоска, чтобы купить другую. И вдруг я еще больше опаздываю, так как теряюсь в этих гулких вестибюлях. Я поднимаюсь и спускаюсь по лестницам, пока не слышу сверху голос: «Сюда! Сюда!» И вот, наконец, я в большой аудитории, где нас ждут. Студенты все уже здесь сидят длинными терпеливыми рядами. Но что я им скажу? С чего начать? Как не скатиться на банальности, бесполезные общие места? Нужно не спешить, поговорить с каждым с глазу на глаз, выслушать их, дать им почитать, почитать им — все слишком быстро. Их взгляды обращены к нам, благожелательные, немного равнодушные, в то время как через широкие оконные проемы видно, что самое важное происходит на улице: весна. В запахе сирени, волнующем, мимолетном, настойчивом, восторженном — самые красивые привои сирени были получены как раз в России: «красавица Москвы» (бледно-голубая), «знамя Ленина» (темно-красная)…
Чего они от нас ждут, эти юноши и девушки? Как сделать, чтобы эта встреча не стала для них простым нарушением расписания занятий? («На завтра? Нет, ничего не нужно готовить. Преподаватель сказал, что будет встреча с французскими писателями. Какие вопросы ты хочешь, чтобы я им задал?») А может, я глубоко ошибаюсь? Наоборот. Может, какая-нибудь из наших ремарок пробудит в них идею, которую они никогда не встречали в литературе. Может, некоторым из них писатель представится безобидным, симпатичным, немного навязчивым, который хочет суть вещей воплотить в форму фразы, желает, чтобы «все это» (мир, жизнь, уходящее время, чувства, людей) не существовало напрасно, не потерялось навсегда… Разве им об этом говорят перед чтением Лермонтова или Виктора Гюго? Разве говорят об этом с учениками, с французскими студентами?
Читать дальше