Старик, лежавший в углу на голом топчане, привстал и проговорил с сожалением:
— На кобыле отец их поехал, — он показал на проснувшихся ребятишек. — В улус. А другой кобылы нету у нас, парень.
Пришлось снова отправляться в путь пешком. Примерно определив, где он находится, Никита, одолев какие-то борозды, взял направление на лесистую гору, за которой должен быть улус, а в нем уж он непременно раздобудет себе коня. Никита спешил, с минуты на минуту ожидая погоню. Чоновцы не успокоятся, пока не найдут его труп или не обшарят местность на десятки верст кругом, зная, что, раненый, он далеко не уйдет.
У него начинался жар. Кости ломало и мозжило, голова дробилась на части, а то вдруг лопалась с треском, как переспелый арбуз.
А отец опять брал и потихоньку настраивал чуткую скрипку и легонько пробовал наканифоленным смычком самую звучную ее струну. Отцу было наплевать, что Никита никогда не любил и уже не полюбит музыку. Никите от нее становится хуже, ему снова хочется пить, а сердце вырывается из груди. Сделать хотя бы один, всего один глоток, а потом уж лечь и умереть. Умер же брат Аркадий, почему бы теперь не умереть и ему?
Он, еле переставляя ноги, поднимался в гору. А подъем, как назло, становился все круче и круче. И решив немного отдышаться, Никита приткнулся к голому камню и посмотрел назад. Перед ним в переливчатом кровавом тумане привольно разбросилась рыжеватая долина с темными пятнами леса, с одинокой чабанской избушкой, с чешуйчатой змейкой реки в стороне. Но что это? Между избою и Никитой, примерно на середине пути, там и сям прыгали вразнобой, как зайцы, какие-то непонятные, верткие существа. Сперва их было два или три, затем они увеличились числом, их стало много-много больше. Они приближались отовсюду, беря Никиту в кольцо.
Через плывшие перед ним огромные красные круги Никита присматривался к летящим на него огнедышащим существам и наконец понял, что это и есть всадники. Более того, одного из них — передового, в папахе, лихо заломленной на затылок — он сразу узнал. Это был заслуженный партизан Дышлаков.
Надеяться было уже не на что. Никита дрожащей рукой приставил маузер к бронзовому от загара виску и, позабыв помолиться, резко нажал на спуск.
4
Два золотых кольца было у Ивана. Одно из них — дутое, с крохотным бриллиантиком — подарила ему Настя, она купила это кольцо у какой-то печальной на вид барыньки в Красноярске, когда при Колчаке неудержимо покатилась на восток первая волна омских беженцев. Барынька безутешно плакала, расставаясь с бесценной для нее вещицей, и уверяла Настю, что кольцо принесет ей непременно многие и многие удачи.
Другое кольцо торжественно надел Ивану на палец Макаров. Оно было массивное, литое, на него ушло много золота, правда, золота невысокой пробы. На лицевой стороне перстня какой-то страдалец пожелал выгравировать число 13, как бы бросив тем самым дерзкий вызов своей судьбе. Макаров тоже говорил, что Иван не пожалеет, приняв этот примечательный подарок.
Но с некоторых пор Соловьев стал все чаще засматриваться на свои кольца с неизменной горькой думой, что ему преднамеренно всучили совсем не то, что надо бы, что его, попросту говоря, обманули самым бессовестным образом. Особую подозрительность вызывал у него, конечно же, макаровский подарок. Чертова дюжина, всеми признанное несчастливое число! Очевидно, сам черт имел касательство к этому проклятому, заколдованному перстню.
Макаров ходил именинником после вылазки отряда на Улень. Много всякого барахла приволокли повстанцы в свой лагерь, прихватили даже гармошку, чтоб веселее было зимовать в безмолвной таежной глуши. Вроде бы недаром рискнули на опасную операцию, и теперь надо бы только радоваться, что все сошло гладко, а Соловьев сказал себе: нет!
Когда человек долго живет на положении дикого зверя, у него невольно появляется тонкое, звериное чутье. Так вот этим самым обостренным чутьем и понял Иван, что для отряда наступает пора крупных неудач, пора жестоких боев и в конце концов — полного разгрома. При всей узости своего умственного кругозора, при всем своем легко уязвимом и непомерно раздутом самолюбии Соловьев трезво оценивал складывающуюся обстановку. Да разве выстоять ему против целого государства! Но что же делать тогда? Куда идти и с кем? Он не мог покинуть родные места, и это должно было его погубить.
Чоновцы уже подбирались к соловьевскому лагерю. Пусть атаман запретил кому бы то ни было покидать лагерь, чтоб не оставить следов на снегу, пусть запретил стрелять, чтобы выстрелами не привлечь чьего-то внимания, пусть печи в быстро выстывающих избах и землянках топили только по ночам, чтобы дым не демаскировал лагерь, — все равно Иван чувствовал, что спокойно ему не досидеть здесь до весны, кожей чувствовал это, всем существом.
Читать дальше
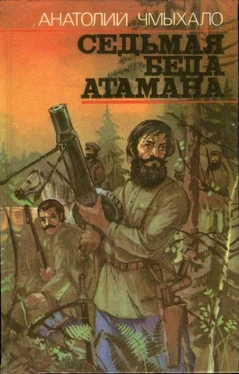

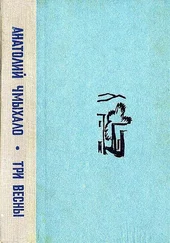

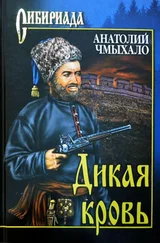


![Василий Сахаров - Сын атамана [publisher - МедиаКнига]](/books/414756/vasilij-saharov-syn-atamana-publisher-mediakniga-thumb.webp)




