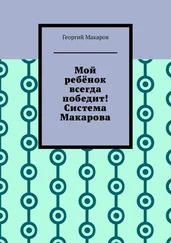Мы с Герасимом Петровичем в одной «бане» не грелись, не «парились». Он, бывало, у своих сетей, у лодки, а то и в лодке при хорошей погоде ночует. Я – у своих переметов, удочек. Подойдем иногда друг к другу, чаще я к нему, перемолвимся десятком слов и снова – по своим местам. А десяток слов обычно о той же погоде, о рыбе: как в сеть идет, клюет – не клюет. Никогда я его о взрослых делах, о жизни не спрашивал. Что он делал до войны? На каких фронтах воевал? В каких странах побывал? Чем занимается сейчас, кроме рыбалки?.. Ни разу, честно признаюсь, не спросил, не поинтересовался.
Жалею об этом? Теперь, когда внимание к фронтовикам, к истории войны усилилось и усиливается, – да. С болью признаюсь: эти вопросы я не задавал даже отцу. Почему? Не знаю. Не знаю… Мои сверстники, как нас сегодня называют, «дети войны», наверняка тоже помнят: и через десять, через двадцать лет после ее окончания о войне говорили, вспоминали неохотно и редко. Слишком больно она болела в каждом из тех, кто пережил, перенес ее. Слишком много было ее в наших сердцах, в нашей памяти. В раненых сердцах. В горькой памяти. Не погасла, не зажила, не выветрилась из наших сердец, из нашей памяти война и сегодня.
Болят руки, ноги моей жены, бабушки уже взрослых внучат. Не от старости болят. От войны болят. Чуть не с младенчества болят. Ребенком была в оккупации. Горели белгородские села. Горела земля. Мать матери моих детей на детских самодельных саночках возила дочку и сына из села в село – спасала от фашистов, от бомбежек, от пуль и снарядов – спасала от смерти. В снегу и ледяной грязи вязли саночки. Сутками, неделями не просыхала на детях одежда и обувь… Спаслись. Выжили. Но всю жизнь у жены «ломало» к непогоде – а затем и в погожие дни – руки и ноги. Болели суставы. Война покусывала сердце, напоминала о себе памятью о погибшем от фашистской пули отце…
И так у всех. И так везде. И так будет еще долго, долго.
У детей, у подростков свой мир. И они взрослых в него с неохотой допускают. И сами в мир взрослых входить не спешат. Может, подспудно понимают – успеют? Этими соображениями, наверное, руководствуются и взрослые, не торопясь посвящать подрастающее поколение в свои дела и заботы, – успеет…
Помню, лишь раз или два Герасим Петрович говорил со мной как со взрослым на «взрослые» темы.
Подошел однажды в полночь к моему костерку, присел на коряжину (я ее издали для костра подтащил), покрутил головой.
– Болит, по-страшному голова болит. Контузия проклятая замучила – сил нет. Работать не могу. В день по пять-шесть приступов бывает. Как будто кто железными тисками сдавит голову – из сознания выбивает… Здесь, на Ононе, мне всегда легче бывает. Спокойно, тихо… Воздух прохладный, влажный. А в деревне даже цыплячий писк раздражает… И вот надо же, чем дальше от войны, тем чаще и сильнее голова болит. Видно, война – как дурное семя: с годами все глубже корни запускает и в рост идет… – Герасим Петрович отпил несколько глотков из поданной ему кружки с холодным чаем. Чаем мы называли отвар из корней шиповника. Шиповника было много тут же, на ононских берегах, и заварка из его корней была бесплатной и отменной на вкус.
– В Германии это было… Есть там такая река – Шпрее. Течение не сильное, тише ононского. Форсировали мы ее. Обстрел был, но не густой. Немцы у Берлина огрызались на все стороны. Но зубы мы им повыбили изрядно.
Плыли мы кто на чем. Бревна, доски, резиновые лодки, у немцев же захваченные, – все в дело шло. Нас семеро человек, из нашей роты, в такую лодку втиснулись. Ходкая, поворотливая, но, сам понимаешь, хлипкая.
С нами, мужиками, в лодке медсестра была. На бортике сидела. Плывем. То там взрыв, то там. От нас далеко. Еще десяток гребков, и вот он – берег. Мы уже привставать начали, к высадке готовиться. И тут – шарахнуло!
Встала у меня перед глазами черная стена. Постояла долю секунды неподвижно, а потом с треском-грохотом переломилась, и верхняя половина на меня и моих однополчан рухнула. Вес – многотонный. Меня чуть в дно реки не вдавило. Рукой, ногой шевельнуть не могу. Задыхаюсь. Захлебываюсь… Чувствую, кто-то меня за гимнастерку тянет – от дна отдирает, поднимает… И – все!..
Очнулся на берегу. На самой кромке. Голова чуть воды не касается. Хочу приподняться – не могу. Руки – чужие. Ноги – чужие. И голова – чужая. Каждая частичка тела сама по себе, отдельно от других, живет, никаким приказам-усилиям не подчиняется. Страшно… В то же время чувствую: шевельнусь – соскользну в воду. Туда, откуда на меня… глаза смотрят… карие глаза… медсестры нашей. Лежит она в воде, в каком-нибудь метре от меня. И сквозь воду… тоненький слой воды… как через оконное стекло смотрит… Мертвая… глазами живыми смотрит… Большими… Карими… Зовут они меня. «Помоги!» – зовут. А я пальцем пошевелить не могу.
Читать дальше
![Борис Макаров Знамя Победы [litres] обложка книги](/books/390952/boris-makarov-znamya-pobedy-litres-cover.webp)

![Борис Батыршин - Чужая сила [СИ litres]](/books/390929/boris-batyrshin-chuzhaya-sila-si-litres-thumb.webp)
![Борис Руденко - Очень холодно [сборник litres]](/books/397739/boris-rudenko-ochen-holodno-sbornik-litres-thumb.webp)
![Кэндис Кумай - Кинцуги [Японское искусство превращать неудачи в победы] [litres]](/books/407120/kendis-kumaj-kincugi-yaponskoe-iskusstvo-prevrachat-thumb.webp)
![Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]](/books/408418/boris-zajcev-dalekoe-sbornik-litres-thumb.webp)
![Борис Батыршин - День, который не изменить [litres]](/books/415040/boris-batyrshin-den-kotoryj-ne-izmenit-litres-thumb.webp)
![Борис Акунин - Князь Клюква [litres]](/books/416186/boris-akunin-knyaz-klyukva-litres-thumb.webp)
![Борис Виан - Пена дней [litres]](/books/429568/boris-vian-pena-dnej-litres-thumb.webp)
![Борис Конофальский - Нечто из Рютте [litres]](/books/431809/boris-konofalskij-nechto-iz-ryutte-litres-thumb.webp)