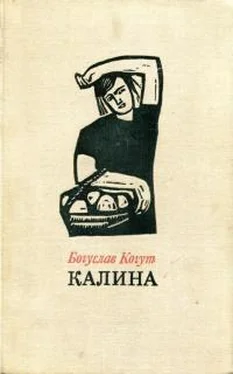— Говори, раз начал. Где жерди-то?
— Где им быть? В Слотыни.
— Я туда и еду.
— Подбрось меня в деревню.
Когда Матеуш проезжал мимо своего дома, ему показалось, что тропинкой вдоль шиповника шла Калина, но не остановился, не хотелось терять времени, до Слотыни было довольно далеко. И Калине показалось, что проехал Матеуш, это его мотоцикл так трещит, а возможно, она и ошиблась; хотела было выбежать на дорогу попасть в свет фары, но не успела, сноп света опередил ее и стало опять темно. В тени живой изгороди стоял Борис.
— Удрал от тебя?
— Как ты меня напугал, Борис.
Когда-то было так же, но «когда» это могло быть, наверное, очень давно, она не была еще женщиной, но голос у нее был такой же, в нем больше смеха, чем робости; а было так: она сидела на копне сена и перебирала бусы, он тихонько подкрался сзади и прикрыл ей осторожно глаза; она тотчас заслонила рукой довольно глубокий вырез на голубой кофточке, заслонила груди, которые проглядывали сквозь легкую ткань, так как она еще не носила лифчика, еще не была женщиной, и сказала: «Борис, как ты испугал меня». Она сползла с копны, придерживая руками юбку, вся порозовевшая, светящаяся, и, смеясь, сказала: «Жених уже, а балуешься как школьник». Кажется, это было воскресенье, а может быть троица, Калина пахла аиром, а может быть, это пахли луга; он долгие годы не вспоминал об этом, и только сейчас картины прошлого ожили, но они были уже печальны и молчаливы, как мыльник. Мыльник растет на межах и вдоль заросших проселков, склонив стебелек, покачивает прозрачными коробочками, а в них маленькие, плоские и твердые зернышки цвета сухой зелени; кузнечик по ошибке прыгнет на коробочку мыльника и молчит, не стрекочет, лапки почистит и удирает; мыльник, когда созреет и высохнет, от легкого дуновения ветерка бренчит своими коробочками, а если шмель его заденет или стрекоза, он отряхнется и бренчит; давно не встречался Борису мыльник, здесь, в низине, он не растет, а может быть, растет только для детей, во время войны на возвышенностях он тоже не встречал мыльник, а может, и не искал, забыл о нем, не подумал, что его не будет, заранее никогда не знаешь, что следует запомнить или захватить с собой на память, в каких местах сохранять за собой возможность возвращения, а какие бросать навсегда.
— Ты молчишь, Борис.
— А что я тебе скажу?
— Ты прав. Нам не о чем говорить.
— Подожди, не уходи.
— Холодно…
Вечерами всегда холодно, особенно осенью, стемнеет — и холодно, ты этого не чувствуешь лишь тогда, когда у тебя есть что сказать, что-то важное, важнее холода и мрака и всего, что вне тебя.
— Почему ты тогда плакала?
— Не спрашивай об этом.
— Из-за Матеуша? Я понимаю. Он думает, что у нас с тобой тут что-то было, и ревнует, он, видно, подозревает, что мы уже давно любим друг друга. Разве не странно? Моя жена, — тут он осекся на мгновение, словно нечаянно допустил бестактность, — она тоже думает, что мы любили и, наверное, еще и сейчас любим друг друга; Здися думает, что мы с тобой любовники, Матеуш тоже, я полагаю, что многие, менее заинтересованные, тоже так думают, только мы знаем, что мы не любовники; когда я размышляю об этом, мне начинает казаться, что мы с тобой кого-то обманываем, скорее всего самих себя, что в этом есть какая-то фальшь, и неизвестно, что делать, чтобы этой фальши не было. Я уеду, ну скажем, убегу, но это останется, разве ты этого не замечаешь, тебя это не тревожит?
— Не надо об этом.
— Как хочешь.
Они немного помолчали.
— Холодно становится, — проговорила Калина.
Он обнял ее, она не отстранилась и не противилась, когда он целовал ее, только не противилась, не больше.
— Теперь уже все, Борис. Действительно все.
— О чем ты?
— Ты знаешь. Не будь несправедлив ко мне. Я не умею высказать, что чувствую, о чем думаю, я тебе желаю только добра, о детях столько не думаю, сколько о тебе; когда ты ездил в Италию и в Испанию, я ездила с тобой, а ты даже и не знал, не думал обо мне, впрочем, может быть, и думал, каждый думает по-своему, но теперь все, Борис; я хочу остаться со своими мыслями и больше ничего не хочу, выразить я это не умею, но ты должен понять, ведь ты… ведь ты…
— Что я?
— Ты все понимаешь.
— Понимаю, — солгал он, — понимаю.
— Не раз мне хотелось спросить тебя, как там в других странах, но…
— Всюду одинаково.
— Я тебе не верю.
— Люди везде одинаковы. Только ландшафт другой. И архитектура. Земля звучит по другому, окна смотрят по-другому, другой свет и другая тень, другой дождь и туман, а люди такие же — любят, страдают, забывают друг друга, неожиданно встречаются, не умеют разговаривать друг с другом, бьют по лицу, сплетаются телами для счастья или же для удовольствия, пьют и убегают в безлюдные места, хотят вернуться, не понимая, что никогда и никуда вернуться нельзя…
Читать дальше