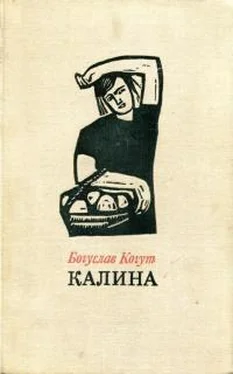Кароль голосовал с утра, потом был в Ступольне. Рыночная площадь крикливо разукрашена, солнце, снег. Не отыскать места, на котором ночной гость, неудачливый заговорщик, сделал последний шаг. Люди не смотрят на то место, а должны бы смотреть, это было так недавно, должны помнить. Но люди не помнят. Благодатна эта способность забывать. «Все в порядке, товарищ секретарь, шестьдесят процентов уже проголосовало». Бургомистр доволен. Секретарь горкома смотрит исподлобья. «До вечера далеко». Это должно означать, что до вечера многое может случиться. Например, нападение на избирательный участок. «Кино, где разместился избирательный участок, невезучее место. Тут всегда что-то случается. С вами тоже, товарищ секретарь. Тут в вас стреляли, верно? Подкрутите получше репродуктор. Так. Весь народ выбирает свою высшую власть, народный демократический сейм. Что человек услышит десять раз — запомнит, что увидит один раз — забудет».
В полдень заглянул домой. Хотел сказать Магде, что все идет хорошо, нигде никаких инцидентов, явка неплохая, в урны летят преимущественно «тройки». «На тройку», как говорил Чеслав. Пусть будет «на тройку».
Петер стоит под окном, и подбородок его дрожит. Магда не ответила на приветствие, мать сдавливает кулаками виски и похожа на изваяние скорбного Христа в Крачеве.
— Что случилось?
— Нет его, — бормочет Петер, и кажется, что его челюсть вот-вот отвалится и грохнет об пол.
— Пьян был? — спрашивает Кароль.
— Нет. Самую малость. Я вышел на минутку…
— За водкой…
— Где сейчас возьмешь водки. Я голосовать пошел. Возвращаюсь, а его нет. И след простыл.
У Магды в глазах осколки льда. Смотрит и не видит.
— Это я виновата, — говорит она чужим голосом, — напрасно к нему ходила.
— Не говорите Чеславу. Ничего ему не говорите. Петер, слышишь? Магда, мама, не говорите. — Кароль еще раз обернулся у дверей и повторил с расстановкой, почти с улыбкой: — Помните, не говорите ему! Я должен идти, — оправдывается он, — я должен, сами понимаете.
Куда он пошел? Среди бела дня. Может быть, в Бжеск на Куявах, к вдове Блеска? Сбежал. Трус. Или пошел к Смоляку, скажет: мой брат меня прятал, а я не хочу прятаться. Это правда, Кароль, товарищ секретарь? Правда. У меня были дела поважнее, чем это, я поручил его Петеру, до выяснения. До какого выяснения? Не ожидал я, товарищ секретарь, никто от тебя такого не ожидал, всем сестрам по серьгам, в одних стреляем, других прячем, — кто же ты, собственно, секретарь, коммунист? Поджигатель? Обыкновенный карьерист? Не опускай глаза, имей смелость смотреть прямо.
У меня хватит смелости, не беспокойтесь об этом. Я осмелился не приглашать тебя, Смоляк, на разговор с Бартеком, с капитаном Бартеком, кавалером орденов Виртути Милитари, Боевого креста и Партизанского креста, заместителя президента «факельщиков», я осмелился не приглашать тебя сразу с наручниками и уголовным кодексом, я осмелился понять, что его преступлению предшествовала обида. Не был ли и я к этому причастен? Ошибаешься, вы ошибаетесь. Я не искал никакого искупления. Я просто не хотел прибавлять обиду к обиде. Да. А знаешь ли ты, подсчитал ли, сколько наших людей пало на Кривом Поле от рук заместителя Блеска, капитана Бартека, кавалера ордена Виртути Милитари? Я не бухгалтер, никогда не буду бухгалтером. Ты — изменник. Партия тебе доверяла, а ты? Партия? Кто это партия? Может быть, это также и я? Разве я не внес никакого вклада? Нет уже тут никаких твоих вкладов, партия — не акционерное общество, товарищ Новак.
Звонит Смоляк:
— Как идут дела? Неплохо?
— Неплохо.
Бартек не пойдет хвалиться, что нашел убежище у брата. Не пойдет. Но из этого немногое следует. Как это он говорил: «Не придется даже портить надгробье. Мне не позволено жить. Мне позволено умереть. Когда и как захочу». Может быть, он не лгал, не плел спьяну; Магда тогда ошиблась относительно него. «Вы не спасете меня и не погубите». Глупец! Будет амнистия. Кто явится добровольно, любой поджигатель, если явится добровольно, все провинности будут ему прощены. Может быть, следовало ему об этом сказать, наверняка следовало бы сказать. Убедить — подожди, посиди, никто тебя прошлым не попрекнет. Никто? «Велика ли радость, сам себя буду упрекать», — сказал бы Бартек. Так бы сказал вчера, сегодня. А потом переменил бы мнение.
Миколайчик в окне адвокатской конторы, резиденции ПСЛ, помрачнел, приуныл. Это заметил Сухацкий. Летят к чертям семьдесят пять процентов мандатов, так всегда бывает с теми, кто одержим манией величия. Сухацкий считает, что Миколайчик одержим. Можно ли, следует ли выражаться подобным образом о вице-премьере? Сухацкий гогочет, словно от удачной остроты. И Кароль тоже смеется, с некоторым запозданием, вяло.
Читать дальше