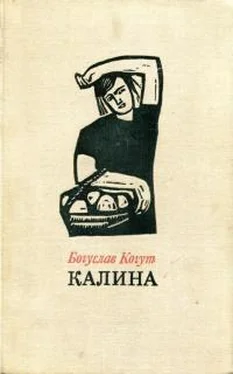— Я должна оправдываться?
— Вовсе нет. Я ни от кого не жду объяснений.
— Я, наверное, с ума сойду.
— Нет никаких причин для этого, не надо только воскрешать мертвых.
— Знаешь, все получилось так, что я не сумею рассказать, все прекрасно помню, каждое свое слово, каждую свою мысль, но все еще не понимаю, то есть снова не понимаю. Все радовались, нет, я не то говорю, мама все время плакала, но это был праздник, такой странный праздник, устанавливали мемориальную доску, пели Интернационал, а я была в стороне, не среди них, старалась представить этого дядю Миколая, но никак не могла. Ты меня слышишь? Мне кажется, что ты меня совсем не слушаешь. Я пыталась представить его, а видела тебя хорошо, до боли, до боли ясно, я впивалась ногтями в ладони, чтобы не плакать, чтобы не кричать; они праздновали, это были то ли поминки, то ли то и другое, а я была рядом, точно была уже твоею женой, если бы мы успели обвенчаться прежде, чем ты ушел на фронт, мы бы успели, но ты не торопился с этим, говорил, помнишь, как говорил? Что еще успеется, если этому суждено быть, а если нет, то зачем оставаться вдовой, так ты говорил, а я тогда на этих поминках жалела, что я не твоя вдова, то есть твоя жена, тогда бы не стояла в стороне, имела бы на тебя право, на то, что осталось от тебя, на славу, это звучит так книжно, но не только в этом дело, я бы имела право сказать: он был мой, он останется моим, и не стояла в стороне, как бедная родственница, как пригретая сирота, мне было больно и от твоей славы, и от того торжества в твою честь, которое обошло меня, а ты принадлежал мне более, чем кому-либо, ты знаешь об этом, не можешь не помнить, ты ни с кем не был так откровенен, никому не поверял всех своих мечтаний, обид, как мне; видел ли кто-либо тебя плачущим, наверное, нет, я была тебе ближе всех, пусть недолго, но для меня это целая жизнь, а когда тебя не стало, когда тебя возвеличили заодно с дядей Николаем, которого я никак не могла себе представить, потому что ты заслонил его, хотя и значился вторым на этой доске и уже не был моим, обходил меня стороной, мне было больно…
— И поэтому вышла за Кароля?
— Не знаю. Может быть, я хотела сохранить права на тебя через Кароля, может быть, именно так и было, хотя мне казалось, что я его люблю… что полюблю.
— Если бы это меня сколько-нибудь трогало, если бы трогало, я сказал бы, что не верю в эти бредни, в эту экзальтированную болтовню.
— Но тебя это не трогает.
— Нет. Совершенно нет.
— Я в это не верю, Бартек. Тебе просто нечего сказать, ты слишком горд…
— Ты, как всегда, знаешь обо мне больше, чем я сам. Но мне хотелось бы, чтобы ты поверила мне, что я не таю никакой обиды, ни в чем тебя не виню, именно то, что тебя терзает, уже вне меня, это рядом, как бы ты выразилась.
— Ты в обиде на Кароля.
— Я думал и так, не угодно ли: под предлогом заботы об одинокой, овдовевшей девушке выполнил свои давние намерения. Приударил за ней, навязывался, не мог отбить у живого, отбил у мертвого. Так пытался думать, но напрасно подзуживал сам себя, это все уже вне меня, а Кароль, пожалуй, прекрасный человек, у тебя достойный муж, Магда.
— Я не узнаю тебя, Бартек, ты хочешь оскорбить меня. А то, что было, а наша любовь?
— Любовь? — Он снизил голос до шепота. — Ты думаешь, что любовь какое-то волшебное зелье или магическое заклинание? Скажешь «любовь», скажешь «люблю тебя», и уже все ясно, все улажено. Здесь, сейчас между нами эти слова ничего не уладят, не разъяснят, а совсем наоборот. Ты не заметила, что все понятия, а особенно такие, как любовь, имеют смысл и огромное значение и одном определенном положении, в определенном месте и времени. В иное время, в другом месте, они теряют неотвратимо и этот смысл и это значение, сосна хороша в лесу, в костеле же, во время богослужений, она будет выглядеть нелепо, может быть, это не совсем удачный пример, несколько абстрактный, но так, в большей или меньшей степени, обстоит дело с понятиями, с чувствами, их невозможно сохранять в неприкосновенности, переносить из одной почвы в другую, из одного времени в другое.
Магда плакала, не тая слез.
— Что ж, наша любовь, было нечто, что мы так называли, это было прекрасно, великолепно, тогда, в тех обстоятельствах, ныне каждый из нас стал совсем другим, то, что случилось за это время со мной и с тобой, вовсе не было сном… Но ведь даже сны…
— Бартек, Бартек, о чем ты говоришь? Я тебя совсем не понимаю, не узнаю…
Когда-то она говорила то же самое, что он ничего не понимает. Он не помнил, о чем тогда шла речь. О Модесте? Может быть, о ее отце? Но говорила точно так же, полная одновременно страха и доверия, которое обезоруживало. Хотелось объяснить ей все до конца, вызвать улыбку на ее лице. Была ночь. И теперь ночь. Но это было где-то там, не здесь, это было в лесу, а может быть, в стоге сена, или на дороге, где пахла акация, пел соловей, а может быть, шел дождь, это было когда-то давно. Надо обнять ее, прижать к себе, заглянуть в глаза. В глазах вся душа человека, поэтому в средние века ослепляли. Объяснять надо молча. Так возникает глубочайшее доверие, соединяющее два встревоживших друг друга молодых сердца. Потом это называют любовью.
Читать дальше