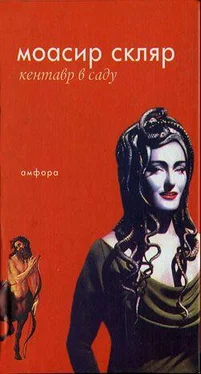Самолет с оглушительным ревом пронесся над клиникой.
– Самолет короля, – сказал доктор. – Он часто здесь летает. Думаю, что…
Я перебил его:
– Ну? Что же произошло потом?
– Что произошло? Ах, да. Ну, скоро я понял, что добиться сколько-нибудь приемлемого результата невозможно. У вас с Титой было примерно по половине человеческого тела, а передние ноги вполне могли заменить человеческие. У Лолы от человека только голова и бюст. После операции, даже в случае удачи, она превратилась бы в еще более странного уродца: карлика на львиных лапах. Я так и сказал коллеге. Он был настолько огорчен, что предпочел уехать, оставив сфинкса мне. Буквально через несколько дней он умер от сердечного приступа. Слишком впечатлительный был человек, верил в проклятья, в колдовство, что его, по всей видимости, и убило. Лола осталась у меня. Сначала она и видеть меня не желала – даже теперь временами готова наброситься, как ты сам мог убедиться, – но мало-помалу мне удалось завоевать ее доверие. Я научил ее французскому языку… Она большая умница: схватывает все на лету. Много читает. Но неразговорчива. До сих пор я мало знаю о ее жизни.
Он осушил бокал.
– Превосходное вино. Просто превосходное. Так вот, как я уже говорил, стало ясно, что оперировать ее невозможно. Возник вопрос: что с ней делать? Признаюсь, у меня мелькнула мысль начать показывать ее публике. Можно было бы неплохо заработать; уже тогда я испытывал финансовые затруднения, деньги бы не помешали. Я осторожно заговорил с ней об этом. Она пришла в ярость, закричала, что скорее умрет. Я решил ее не травмировать, Гедали. Сам видишь: я теперь всего лишь старый разорившийся врач, которому в прошлом не чужды были сомнительные делишки, – однако остатки достоинства во мне все же сохранились. Я выделил Лоле эту палату, создав все возможные условия; не знаю, заметил ли ты, но там даже есть телевизор. Ты видел клетку, но это не просто тюрьма. Она нужна для того, чтобы сдерживать приступы ярости, которым Лола порой подвержена, кстати, как я тебе говорил, не так уж редко. В конце концов клетка служит для ее же безопасности; она сама это признает. Бедная Лола. В глубине души, говорит она, я дикий зверь.
Он засмеялся.
– Дикий зверь? Нет, Гедали. Несчастная девушка – вот кто она. Одинокая. Загадочная.
Я спросил, можно ли мне с ней поговорить. Он взглянул на меня: некоторое недоверие, может, что-то вроде ревности мелькнуло в этом взгляде. Однако он умел скрывать свои чувства:
– Как хочешь… Не знаю, станет ли она с тобой разговаривать. Попробуй отнести ей завтрак. Если дашь денег, я попрошу утром купить жареного барашка. Она его очень любит.
В эту, вторую мою ночь в клинике я опять не спал. Ходил по саду, слишком возбужденный, чтобы заснуть. Столько переживаний. И какой силы. Что я наделал? На что иду? – спрашивал я себя, опомнившись, хотя и не вполне. Да, я опомнился и теперь винил себя за то, что поддался слепому порыву, за то, что бросил жену, детей, друзей, за то, что сел в самолет, и за то, что прилетел в Марокко, и за то, что приехал к врачу, и за то, что сказал ему о желании снова стать кентавром. Что послужило толчком ко всему этому, к этой цепной реакции безумств? То, что я увидел Титу в объятиях кентавра? Его гибель? Это верно: Тита обнималась с кентавром, кентавр бежал и был убит. Так не лучше ли было сказать: Тита, иди сюда, поговорим, разберемся, что все-таки произошло, что было на самом деле, а что померещилось? Ну? Разве не лучше? Но нет, вместо этого Гедали развернулся на сто восемьдесят градусов – и был таков. Махнул в Марокко, будто в соседний кинотеатр. Не лучше ли было хотя бы посоветоваться с Паулу?
Чем не подходящие вопросы для человека, пришедшего в себя? Но опомнился я не вполне, я все еще висел между землей и небом, подобно крылатому коню, я все еще описывал стремительные круги в облаках на такой высоте, что в голове у меня звенело. Нет бы ответить на свои собственные вопросы. Но вместо этого я то улыбался по-идиотски, то по-идиотски всхлипывал, отдаваясь на волю головокружению, иными словами, предпочитая откровенно не понимать, что происходит и что должно произойти, позволяя себе думать о Лоле, чей образ заслонял все на свете. Увидев то, что увидел я, любой бы спросил себя: да жил ли я до сих пор? Жизнь это была или сон? – настолько мощным было впечатление от этого небывалого существа, от красавицы-сфинкса. Все, что казалось важным, значительным, терялось, переставало существовать в сравнении со сфинксом. Семья? Сфинкс. Работа? Сфинкс. Друзья? Сфинкс. Дом? Сфинкс. Машина? Сфинкс. Одежда? Сфинкс. Хорошо прожаренный бифштекс? Сфинкс. По воздействию на чувства не существовало ничего равного сфинксу. И по необычайности. Даже образ кентавра, несущегося вскачь по пампасам, померк перед сфинксом. Даже образ женщины-кентавра, несущейся вскачь по пампасам. Далее образ пары влюбленных кентавров, несущихся вскачь по пампасам.
Читать дальше