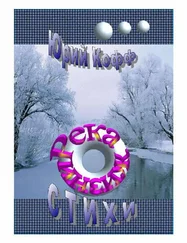«Встречи с другими взрослыми. Родители отделили свой мир от моего. А меня очень тянуло к друзьям отца. Но, вы знаете, у них главные разговоры — о работе. Работа меняется — все контакты исчезают. У отца нет ни одного близкого друга. Ладно, меня не пускали в этот мир — я проник в него сам. Взрослые, с которыми я познакомился помимо дома, были другими: уверенными, беззаботными, их знали швейцары в ресторанах. Меня тянуло к ним. Позже я узнал, что эти взрослые — такие же, как я. Вернее, я стал таким же, как они».
«Любовь. Встречаешь человека, который тебе нравится. Тебе хочется обладать этим человеком. Раньше перед дамами гарцевали на рыцарских турнирах. А нам на чем гарцевать? И где? На мотоциклах! На улице! Любовь заставила меня полюбить мотоцикл. Это первое. Второе: если девушка привыкла кушать шоколад и пить шампанское, то тебе хочется купить ей шоколад и шампанское. А для этого нужны деньги, а деньги надо заработать. Это любовь, ничего не поделаешь».
И вот что мне хочется привести целиком: «улица и микромир, который окружает за порогом дома». Знаете, даже некое воодушевление заметил я в его глазах, когда он встал и произнес:
«Улица… Улица — это расширение твоего мира! Улица — это место, где проверяется, кто ты и зачем ты здесь. Дома ты усваиваешь истины, на улице ты проверяешь их в действии. На улице ты находишь друзей, на улице ты встречаешь этих самых девушек. Не согласен, что улица влияет тлетворно. Улица — это и хорошее, и плохое. На улице ты видишь и злое, и доброе. Дело все в том, к чему ты стремился. А к чему ты стремился, то ты там и находишь. Я нашел на улице то, что искал, то есть людей, подобных себе. Вы знаете, от раннего детства у меня осталось ощущение карнавальности центра города. Я помню: подъезжаем на машине, папа ходит по магазинам, а я смотрю из окна и вижу этот карнавал, особенно вечером. Как мне хотелось попасть туда! И я попал. Когда я впервые пришел в кафе в самом центре города, где собирались центровые ребята, — мне тогда было лет четырнадцать, — меня охватили трепет и волнение, как будто я вошел в храм. Потом я стал бывать там часто. И так далее… А теперь — дайте мне еще одну сигарету… Спасибо…»
Не будем оспаривать каждое утверждение Полянова. Не будем высчитывать, все ли факторы назвал он или не все: кто это знает точно? Не будем поражаться примитивности его оценки, если примитивность эта замечена. Не будем негодовать, радоваться вроде не из-за чего.
Не забывайте: слова, закавыченные мной, принадлежат не барабанщику из «Артека», а преступнику, отбывающему срок наказания. Теперь уже третий срок…
Но все-таки это интересно.
Несколько этих страничек из блокнота я прочитал ученому, уже много лет занимающемуся воспитанием молодежи. «А что, — сказал он, — это любопытно. Очень любопытно… Он мог бы выступить у нас в институте…» Я руками развел. «Ах да-да, конечно, — вспомнил он. — Но все-таки любопытно».
Поэтому я без зазрения совести пишу, что разговор с Виктором Поляновым, кроме всего прочего, был для меня не только интересен, но и полезен.
Ну а то ощущение, с которого я начал историю Виктора Полянова, — ощущение жалости. Где же оно?
Как родилось оно, откуда оно взялось, я объясню, когда придет тому время. Чуть позже, тем более что непосредственно в момент беседы с Виктором его еще не было.
Все, какие угодно, чувства были. Все, что угодно. Кроме жалости. И я был уверен, что чего-чего, а уж жалости-то не останется в сердце, когда по прошествии времени взгляд снова уткнется в блокноты с пометкой на обложке: «Финансист».
Но оказалось, что и по сей день Витя Полянов стоит перед глазами. И значит, не так все просто.
В какой-то момент разговора с директором школы, в которой Полянов проучился десять лет и которая, говоря языком высоким, дала ему путевку в жизнь, я неожиданно почувствовал, что именно сейчас будут сказаны слова, впрямую его осуждающие.
Моя собеседница взглянула поверх меня, в окно, потом прямо мне в глаза, как учитель ученику, и спросила:
— Вы еще увидите Виктора там?
— Там? — переспросил я.
— Ну да, там, — сказала она с ударением на последнем слове.
И я понял, что сколько бы раз я ни переспрашивал: «Где там?» — она не скажет: «В колонии, в тюрьме», — потому что эти слова были не совместимы с кабинетом, за дверью которого поднимались пять школьных этажей, бегали новые ребята и звенели веселенькие школьные звонки. И я понимал, что нелепое соотношение «там» и «здесь» для педагога отзывалось покалыванием в сердце, и иначе быть не может, если это не чиновник в департаменте просвещения, а учитель, желающий своим ребятам любой профессиональной судьбы, кроме судьбы Полянова. Поэтому ответил:
Читать дальше