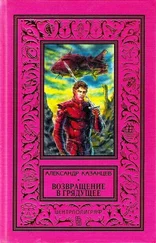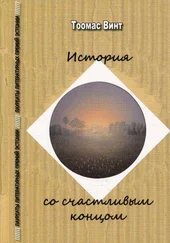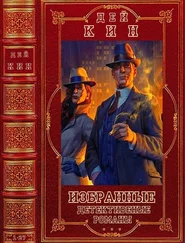— Ему следовало бы в дверях громко крикнуть: «Приветствую вас, дорогие друзья!» — желчно заметил редактор.
— Я полагаю, он еще успеет это сделать, — сказал репортер, и блаженная улыбка застыла на его лице.
— Приветствую вас, дорогие друзья, — сказал Оскар. Редактор встал, и Оскар долго тряс ему руку.
— Разрешите представить: Пальм с телевидения, Кюльванд из института исследования оригинальной литературы, — произнес редактор с излишней торжественностью. Оскар потряс руку и Таавету.
— Тоже на открытие? — с сомнением спросил он. — Или вы…
— Нет, нет, — прервал его редактор. — Кюльванд в нашем городе случайно. — И после минутного колебания предложил Оскару сесть за их столик.
— С превеликим удовольствием! — воскликнул Оскар. — Но, к сожалению, до открытия выставки я должен уладить кое-какие дела, так что я сюда на секунду. Вы, разумеется, будете на открытии? — обратился он к репортеру и Таавету. — И надеюсь, если у вас нет никаких срочных дел, вы придете и на наш скромный праздник, который мы устраиваем по случаю открытия выставки. — Оскар поклонился и тут же направился к столику, за которым сидели представительные лица.
— Теперь доложит им, что телевидение и даже институт литературы на месте, — наслаждаясь собственной иронией, произнес редактор.
— А кто он, этот Оскар? — поинтересовался Таавет.
— Местный деятель культуры, — с насмешкой ответил репортер. — За вчерашний день я наслушался об этом человеке столько немыслимых историй, что, очевидно, брошу свое репортерское ремесло и начну писать роман.
— Тебе придется тогда сделать пояснение к своему роману, дескать, все герои вымышленные, голая авторская фантазия, — заметил редактор.
— Всенепременно. Ибо коль скоро книга предваряется подобным пояснением, все тут же с подвижническим жаром принимаются искать прототипы, и даже когда у автора действительно все ситуации и персонажи выдуманы, всегда найдутся люди, которые захотят подать на него в суд, — рассуждал репортер, а затем добавил уже серьезно: — Боюсь, мне ничего не остается, как сменить профессию, ведь если я не сумею сделать репортаж из такого блестящего материала, меня заклеймят как бездарность, но я в самом деле не в силах извлечь из всей этой каши зерно, которое помогло бы мне создать положительный портрет молодого таланта.
Таавет ел рубленый шницель, репортер снова наполнил рюмки.
— Ну что ж, выпьем тогда за твою карьеру писателя, — сказал редактор с излишне подчеркнутой иронией, но репортер сделал вид, что не заметил этого, и с притворным негодованием произнес:
— Не смейся, у меня и сейчас с собой кое-что.
Таавет удивился, заметив, что его рука словно сама собой потянулась к рюмке, и с возрастающим нетерпением стал ждать, пока репортер выуживал из своего «дипломата» рукопись, чтобы протянуть ее редактору, а затем, когда коньяк обжигающей струйкой потек в желудок, Таавету вдруг захотелось плакать. А ведь он готов был поверить, что разговор идет совсем о другом человеке, произошла грубая ошибка, он попал совсем не в тот городишко, и Марре оказалась среди совсем не тех людей… Не может быть, чтобы та, о которой говорили с такой издевкой, была его Марре… Он верил, что интрига, сплетенная этими бессердечными людьми, сейчас превратится в мыльный пузырь, — вероятно, репортер видит все в кривом зеркале, проецирует свои пороки на других, он просто беспомощный, бездарный вертопрах, свихнувшийся на почве своей известности…
С медлительностью, от которой его самого тошнило, Таавет прожевывал каждый кусок, зная, что, пока он ест, ему можно не принимать участия в беседе этих интриганов, но его пугало предчувствие, что отныне он как бы скован с ними одной цепью, невольно оказался в том же братстве и вынужден действовать заодно с ними, вместе отправиться на открытие выставки, а затем, возможно, и на это празднество и все время быть с ними, но если он сейчас встанет и уйдет, то лишится всякой возможности увидеть Марре, ведь отделись он от них — и вечером, в отеле, репортер начнет прохаживаться на его счет, осквернит все прекрасное, чистое, высмеет его и его любовь… В конце концов рубленый шницель был съеден, и Таавету надлежало что-то сказать, о чем-то спросить, и тогда он попросил репортера рассказать, что же здесь на самом деле происходит. В этой просьбе не было ничего личного, просто любопытство, ее и следовало воспринять как любопытство, но репортер не успел еще и рта открыть, как редактор, оторвав глаза от рукописи, умоляющим голосом произнес:
Читать дальше
![Тоомас Винт Возвращение [романы, новеллы] обложка книги](/books/389241/toomas-vint-vozvrachenie-romany-novelly-cover.webp)