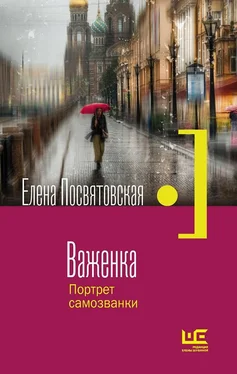— Давайте, давайте, — уперев толстые ручки в боки, кричала нянька. — Ты вообще, что ли, не брилась? Здесь плохо, очень плохо. А ну вон туда живо. Так, что стоим? Пока справа обрабатываются, слева уже сидят.
Важенка шагнула в смотровую. Зажмурившись, ждала, пока вторая санитарка лезвием, одним на пять лобков, почти без мыла и пощады брила без остановки, поворачиваясь то к одному, то к другому креслу.
Все говорили, надо идти первой, а то насмотришься, криков наслушаешься. Но когда открылись двери операционной, женщины едва заметно подались назад. Было до дрожи страшно, до ватных коленей. Сердце замирало, когда оттуда выводили бедолаг в накинутых халатах, с бескровными губами, с подкладными между ног и скидывали им на руки.
— Так, до палаты провожаем девочек.
Важенка провожала почти всех. Выспрашивала.
— Маску не бери. От нее только хуже, — шаркали тапочками, придерживая рукой подкладную. — Матку больно открывать, потом терпимо вроде. Когда скребут уже…
Шатаясь, она возвращалась к дверям операционной, смотрела на всех расширенными глазами. Медсестры выносили лотки с чем-то ярко-красным, похожим на куриную печенку. Важенка отворачивалась, все отворачивались.
Двух женщин вывезли на каталках с беспамятными лицами, белые веки сомкнуты, как навсегда. За деньги, наверное, с хорошим наркозом, в вену!
— И вот кому молиться, если и Бога-то у нас нет. И молитвы не знаем, — говорила со спокойной отстраненностью женщина лет тридцати в бордовом байковой халате. — Как язычники живем. Ни благодати, ни греха, ни спасения. Одни-одинешеньки.
— Так себе и молись. Сама себе бог, — отвечала ей тетка позлее и постарше.
— Точно. Бог внутри, мы снаружи. Себе и говори, и проси, и молись, — вдруг заулыбалась первая, повернувшись к Важенке.
Вторая, окинув Важенку насмешливым взглядом, сказала:
— Да что ты ей рассказываешь. У них пока даже себя нет.
В операционной Важенка еще держалась, пока вносили ее данные в какой-то талмуд. Она даже смогла вскарабкаться на кресло. Сунув нос в маску, задохнулась, откинула ее в дикой панике — не надо. А вот когда звякнул металл в лотке и надвинулись тени, она, приподняв голову, закричала: не-ет! Пронесла высоко пятку над головой онемевшего хирурга, соединила ноги.
— Иди рожай, — привычно вскипела та. — Вон с кресла. Иди рожай, я сказала!
Нет, рожать Важенка не собиралась.
Вика Толстопятенко пятки имела изящные, ставила их немного выворотно, по-балетному, когда, сонно клонясь, шла в своем махровом халате и сабо по длинному коридору на кухню. В руках сжимала кастрюльки, детские бутылочки, турку. Иногда все это хозяйство мелодично позвякивало на расписном жостовском подносе, чтобы сто раз не ходить. Путь на кухню не близкий. Весь свет лишь от двух окон в начале и в конце коридорного туннеля, которые в эту зиму замерзли, несмотря на замазку и бумажные ленты. По голым икрам сквозит.
Утром только она и Важенка оставались на четвертом женском этаже, когда весь остальной люд отправлялся на занятия. Ну, еще пара-тройка бездельников или заболевших.
Каждое утро, выбираясь из комнаты вслед за подносом, Вика заспанно приветствовала Важенку. Та курила на корточках, согреваясь о чугун батареи. Вика кивала на свою приоткрытую дверь — слушай, мол, если закричит. Там, в комнате, мирное мяуканье крошки-дочки: проснулась, поела, гулит в кроватке. Давно договорились с Важенкой: если закряхтит, нужно успеть, не дожидаясь плача, перекинуть ее в манеж из проката, там минут двадцать протянет. Следующий шаг, пока сама Вика по хозяйству, — из манежа переместить Каринку на ковер, в небольшой загон, обложенный со всех сторон подушками и одеялами. Сыпануть туда игрушек. Еще полчаса.
Но через десять минут Важенка по-прежнему у батареи. Значит, не кряхтела.
— Ты на японку похожа издалека. Особенно когда в ту сторону идешь. В этом халате, сабо, шея длинная, волосы… — Важенка жестом показывает Викину прическу.
Викины локоны высоко заколоты вязальной спицей.
— Тихо? — улыбается она, глядя на поднос. Важенка кивает.
Вика толкает дверь ногой. Над колечком импортной пустышки всплывают ей навстречу два раскосых глаза — привет, малышня! Эти азиатские глаза от папы, высланного из Союза в 24 часа за то, что пожелал здесь навсегда остаться. С ней и дочкой. Учебная виза закончилась, другая, на которую подал, еще не началась. В это межвизье ушел он поздней осенью в аптеку, за укропной водичкой от коликов, и Вика никогда его больше не увидела. В землячестве потом поведали о том, что произошло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу