11
А мне Имрих по-прежнему не нравится. Пусть он и чувствует себя лучше, даже сам ходит, за ним теперь не надо особо присматривать, он уже и во двор выходит, потихоньку добирается и до сада и посиживает там немного, иной раз выглядывает и на улицу, но долго снаружи никогда не бывает, устает быстро и почти после каждой долгой — для него-то долгой, а в действительности недолгой — прогулки должен пойти лечь и хоть немного поспать.
Но дело не в этом. Он мне как-то по-другому не нравится, но не в том смысле, как вы, может, думаете. То, что мне в нем не нравится, пожалуй, вовсе не связано с его болезнью. Конечно, я могу и ошибаться. Но что-то странное тут есть, в нем или вокруг него, может, и вне его, возможно, и во мне, в самом деле, не нужно это связывать с его болезнью. А вот что это, я не знаю, не могу объяснить. С другой стороны, что-то меня к нему и притягивает, я хотел бы с ним подружиться, хотя знаю, что он не тот Имрих, которого я ждал, и что таким он не будет, собственно, даже не может быть, если бы и полностью выздоровел. Не будет же он подлаживаться под меня, а то и вовсе под мои смешные, глупые сны. Разве я могу от него это требовать? Но все равно я хотел бы с ним подружиться, а у меня это никак не получается. Я не умею его ни привлечь, ни подслужиться к нему, не люблю подслуживаться, а главное, к таким вот людям, которые ни рыба ни мясо. Ведь он, если говорить откровенно и по совести, правда ни рыба ни мясо, и я даже не знаю, почему он еще и теперь так много для меня значит и почему я хотел бы привлечь его внимание. Неужели я так жалею его? Сочувствую ему? Хотел бы задобрить его? Быть может. Ей-богу, не разберусь в нем, да и себя не пойму.
Пожалуй, меня немного сердит и то, что он до сих пор мне ничего не сказал. Поначалу он вообще не говорил ничего, много воды утекло, пока мастеру с Вильмой удалось вытянуть из него первое слово, но и потом, да и сейчас он не больно-то разговорчивый, хотя иной раз какое-никакое словечко или фразу обронит. А я, когда у них, ловлю каждое слово, да еще и Вильму выспрашиваю: что он сказал? Что? Что Имришко сказал?! Вильма повторяет, но, поскольку слов у него раз, два — и обчелся, ей не хочется вновь и вновь все повторять, подчас со своими расспросами я, видать, действую ей на нервы.
А Имришко я бы кой о чем расспросил! Хотелось бы всякое о нем знать и всякое от него узнать, уж не раз я пробовал заговорить с ним, но до сих пор он мне ни на один вопрос не ответил, говорю же, поначалу он просто не мог, и мне ничего не оставалось, как признать это, больной есть больной, разве прикажешь ему, если он и заговаривает, так обычно о том, что в эту минуту ему кажется важным, самым важным, а если молчит, если говорить не может, за него говорит его молчание. Наверно, придется мне еще много выспрашивать, выведывать, многое восполнить, пока удастся все об Имришко сложить, да и у него разузнать обо всем, что он пережил, кого встретил, какие это были люди, где с ними встречался, что они делали, постигла ли их тоже беда, не рассказал ли ему кто случайно такое, что и меня бы касалось, именно меня, например что-нибудь о нашем Биденко, ведь если там было много народу, а говорят, было, партизан и солдат, и со всех уголков, со всех краев и, дескать, с чужой стороны, так неужели среди стольких людей не мог кто-нибудь нашего Биденко узнать, встретиться с ним, а то и воевать рядом, видеть его в последнюю минуту, видеть, как пал он в бою, и, значит, подтвердить, пал ли он на самом деле, и если да, то не поднялся ли снова, не помог ли ему кто и почему не помог? Или уж нельзя было? А что, если можно? Что, если он все-таки поднялся, если ему помогли чужие, неизвестные люди, кто-нибудь из тех, против которых он воевал, может, эти неизвестные люди о нем позаботились, вылечили или до сих пор лечат? Хотя навряд ли. За такой долгий час он бы, конечно, вылечился и отозвался бы сам, или бы эти чужие люди оповестили о нем, прислали бы письмо или открытку. Нет, такая открытка уже не придет. Трудно о Биденко не думать! Я бы и не думал о нем, но пусть бы я даже не хотел, нисколечко не хотел, как бы ни старался забыть его и не думать о нем, он все равно — и чаще ни с того ни с сего — то и дело вспоминается мне.
Имришко многого мне о нем не расскажет. И спрашивать незачем! Особого толку от него не добьешься, но порой хватает его на иную фразочку, а то и такая вырвется, какую еще недавно понапрасну бы из него и вытягивали. Попробуешь опереться на эту фразу, завязать с ним разговор, а он опять ни гу-гу и еще будто дивится тебе, но все равно — сразу либо после недолгого молчания — ответит, правда частенько невпопад, словно не только на твой вопрос, но и на свою собственную мысль, с которой этот вопрос связан, он уже не в состоянии опереться. Если у него есть мысли — ведь и он размышляет, он теперь столько не спит, — так вот, если у него есть мысли, то наверняка они у него в голове невесть как перекручены.
Читать дальше
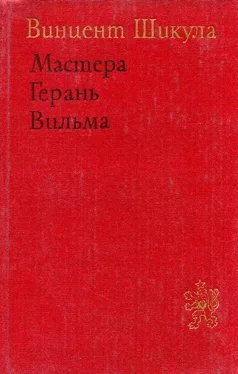




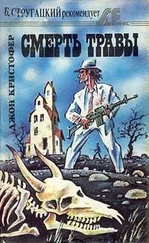

![Юго Вебер - Герань мистера Кавендиша [СИ]](/books/407249/yugo-veber-geran-mistera-kavendisha-si-thumb.webp)
