— Отстань. Сержусь.
— Имро. Ну пойми меня!
А Имро вроде понимает и не понимает. Малость посердятся вместе. Тут Вильма решает, что посерчали и хватит, и говорит: — Имришко, не перестанешь сердиться — уйду домой.
— Ну и иди. Кто тебя держит.
Вильма встает, идет медленно, очень медленно, так как уверена, что Имро окликнет ее — тогда придется издалека возвращаться. Да только Имро упорствует и не окликает ее! И она идет дальше, красивая, стройная, боже ты мой, как она далеко отошла (сделала уже тридцать шагов)! Ну и пусть! Имро как-нибудь выдержит! Пусть идет! Гульдан есть Гульдан, он выдержит и не такое (еще тридцать шагов). Нет, это уж слишком! Имро впадает в отчаяние, начинает дергаться, задыхаться. Он медленно подымается, надо бы еще отдышаться, но что-то воздуха не хватает. Он идет за ней, ускоряет шаги, еще как ускоряет, вот-вот с ней поравняется, интересно, сердится, нет ли? Он проходит мимо нее, обгоняет ее, боже, и как обгоняет! И без единого взгляда, без единого слова. И как он торопится! Тут и Вильма ускоряет шаги, но ей все равно за ним не поспеть. Да хоть и поспеет, проку не будет, он прогонит ее, конечно, прогонит. Ноги отказывают ей, она вся дрожит, она не может и руки протянуть, и голос ей уже не повинуется. Она уже не живет. Все в ней увядает и никнет. Но тут Имро вдруг замечает, что у него развязался шнурок. Он сходит на обочину и невообразимо долго завязывает его; у Вильмы меж тем крепнет шаг, жизнь наполовину возвращается к ней, а когда она видит, что Имро возится и со вторым ботинком, бросается к нему — тут уж жизнь возвращается к ней целиком, даже бьет через край! Они смотрят друг на дружку, смеются, и опять все в порядке. Имро сказал, что возьмет ее в жены. Она не ломалась, не отговаривалась, да и к чему отговариваться? Плохо ей с Имро не будет. Но вот как он об этом мастеру скажет? Может, сейчас-то и сказать?
У мастера перед глазами все еще была собачья деревня, а может, и город, собачий город, местечко с победно торчащими виселицами. А из таких вот деревень и местечек складывается мир, и мастер знал его, умел строить, ведь достаточно было бы покрыть этот мир крышей, потом добавить к ней еще одну и еще, и, когда было бы уже много крыш, сразу бы получилась всамделишная деревня, всамделишный мир, в котором живут люди, а над их жилищами кружат птахи небесные, кружат и поют, не скупясь на помет, и он падает на траву, на дорогу, на тротуар, на двор и на кровлю, да, да — и на кровлю, чтобы она могла собрать пыль и потом, окропленная дождями и прогретая солнцем, утучниться, зазеленеть мшистыми подушечками, расцвесть диатомеями, ожить микробами и насекомыми, а человек мог бы смотреть на нее, и улыбаться, и ругаться, и тревожиться, что вот ему уж сызнова придется рубить амбар, сарай, дом, еще какой-нибудь дом, новый, прочный, добротно связанный, добротно поставленный, с более толстыми стенами, покрытый широкой вальмовой кровлей о четырех водостоках.
Мастер опять заудивлялся и даже улыбнулся: — Н-да, денек-то славный какой!
Тут Имро ему и сказал. Старый схватился за голову: — Иисусе Христе, и ты вздумал жениться? Столько свадеб зараз! Да видано ли такое? Будто меня оглоушили. В голове гудит. Денно и нощно я на венчанье. Кошмар какой-то, просто кошмар! Так и гудит во мне. Тяну пилу, а сам думаю о контрабасисте, что на Якубовой и Ондровой свадьбе два дня кряду наяривал. До сих пор слышу его. Свадьба, свадьба, свадьба! Да я от них захвораю, ей-ей! Хотя бы озлиться на кого-нибудь! Оттого я на цыгана и злюсь, контрабасист из головы не выходит. Ежели встречу — перережу все струны. А вообще-то, сынок, чудной он мужик был… Говорил, что с Трнавы, и смеялся, смеялся, придурок, будто знал, что стану ему подражать. Ей-же-ей, чудной мужик, все преследует меня. Возьму пилу, а он тут как тут. Пилю, пилю, даже в поту весь, точно нанятый. Вытащу метр, возьму эккер, да и хожу, хожу, обмериваю… А контрабасист в сторонке стоит. Вот как смажу тебя по роже! Только его уж и след простыл! Спрячу метр, примусь за работу, а он, искуситель, опять тут как тут. Дьявол меня возьми! Все играю да играю. Унеси леший бревно и работу такую, да и грохни этого придурка блажного стропилом по черепу!
— Тата, будь добр, не шуткуй! — Имро настороженно глядел на отца. — Разговаривай серьезно! Мне с тобой о деле надо потолковать.
Мастер посерьезнел. Хотя и раньше, казалось, не шутил, а тут и впрямь посерьезнел и даже вроде чуть насупился.
— Все только серьезно да серьезно! Все вы серьезные, а обо мне всякий час думаете, что говорю в шутку. Может, я и смешон, ладно. С тобой, Имро, у меня трудностей нет. Женишься, ну будешь женатый. Может, и вправду у меня трудности только с самим собой. Я уж не молод, потихоньку старею. Только с летошнего года я как-то иначе старею, вроде быстрее, подчас даже кажется, что я вроде чего-то боюсь, вроде сам от себя отступаю. Сам себя боюсь. Смирюсь с чем-нибудь, а неделю, месяц спустя гляжу, нет, мол, опять не смирился, да и, поди, не смирюсь. Должно быть, с этой хвори и начинается старость. Должно, это уже и есть старость. После, может, одолеет человека и равнодушие, ничто его не смутит, ничто не напугает, даже смерти он не напугается, не сойдет перед ней со своей колеи. А вот пока можно, он увертывается, старается увернуться, петляет туда-сюда, хотя от себя-то самого как увернешься? Даром корчишь из себя умного, даром прикидываешься дураком, от самого себя не очень-то увернешься. Нынче слегка увильнул, завтра опять увильнешь, думаешь, может, что и других обхитрил, так и идешь дальше, снова и снова петляешь и увертываешься, да вот однажды заметишь, что оно уже перед тобой и что от него-то не увернешься, нашел свое, непременно найдешь однажды свое, каждый когда-нибудь придет к тому, что его ждет… И уж тогда не умничай, не болтай! Эх, было бы кому меня послушать! Да, Имришко, прости, стало быть, свадьба! Что скажешь, позовем того контрабасиста?
Читать дальше
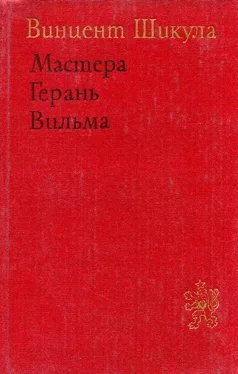




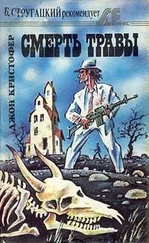

![Юго Вебер - Герань мистера Кавендиша [СИ]](/books/407249/yugo-veber-geran-mistera-kavendisha-si-thumb.webp)
