5
Волк может иногда глядеть овечкой. А если и не овечкой, то по крайней мере добрым малым.
«Словаки в Банска-Бистрице и округе! Мощные бронированные соединения немецких вооруженных сил приведены в боевую готовность для наступления на ваш край. Борьба, к которой принудили вас безответственные антисловацкие элементы, злоупотребляющие вашими патриотическими чувствами, подходит к концу.
Сопротивление бесполезно!
Напрасно будет пролита дорогая словацкая кровь, напрасно будет уничтожена прекрасная словацкая земля.
Прекратите бессмысленную борьбу,
она стоит ненужных жертв вашей отчизне, которую вы все, несомненно, любите.
Подумайте о Варшаве,
где польский генерал Бор-Коморовсккй сдался со всеми офицерами и со всеми повстанцами. Никогда не придет помощь, обещанная вам.
Кто сдастся, тот спасет свою жизнь!
Подумайте о своих женах и детях. Вывесите белые флаги, чтобы сохранить свое имущество. На рукава наденьте белые повязки! Палка с белой материей — наилучшее для вас оружие. Кто сложит оружие и сдастся, тому мы торжественно обещаем
пощаду.
Выловлены подстрекатели и московские агенты. Уничтожайте этих преступников, которые обманули вас, или передавайте их немецким властям.
У нас в руках грозное оружие. Вы избавите себя от рокового конца!
Сдаваясь, вы спасаете свою отчизну и свою жизнь.
Немецкий комендант в Словакии Гёффле, обергруппенфюрер СС и генерал полиции».
Такие или подобные листовки находили часто. В основном до падения Банска-Бистрицы, да и позже. Они были обращены к солдатам и партизанам, и почти в каждой говорилось: «Выходите из леса, сдавайте оружие, идите домой и приступайте к мирному труду!»
И эти листовки действовали на них. На всех действовали. Поэтому запрещалось собирать их. Но их тайком собирали и прочитывали. Многие послушались этого воззвания, ушли к женам и детям, а некоторых гнал домой холод и голод, и, если им везло, а главное, находились влиятельные знакомые, с ними и вправду ничего не случалось. Однако многие домой не пришли, напрасно размахивали они листовкой, с нею же отправлялись они в концентрационный лагерь, если по дороге не настигала их пуля. Повсюду: в канаве, на лугу, под деревом, в любом месте — можно было найти мертвого штатского или солдата, у которого в руке или в кармане была листовка, обещающая спокойный мирный труд, свободу, тепло, еду и сон.
6
Иной раз Имро так хотелось обо всем этом кому-нибудь написать! Но не мог он. Карандаш, ручка, бумага были для него роскошью. Смешно, но это так. Правда, ему-то смешно не было. Если он иногда и смеялся, то нездоровый получался смех, не раз он и сам своего смеха пугался. По-настоящему смеялся он обычно только тогда, когда было что есть. И тогда вспоминал он и Вильму, и отца, и Штефку, и Вильмин сад, и начатую работу, которую мастеру пришлось доканчивать одному, вспоминал он и Вильмины герани, с которыми целое лето она столько возилась, вечно обирала с них мошек, в особенности с одной, что стояла в горнице на окне, на нее обычно светило солнце, когда Имро утром вставал. Что ты делаешь, Вильма? Очень на меня сердишься? Некому тебе помочь, а меня и выбранить не можешь. Есть ли у тебя еще та лиловая герань? И все ли она еще такая запорошенная? Ты по-прежнему встаешь спозаранку и внимательно оглядываешь листочки герани, не пристали ли к ним какие мушки, а потом протираешь подоконник, собираешь с него пыль и сухие цветки или ты повынесла уже все горшки в подполье? Что ты делаешь, Вильма? Думаешь обо мне? Очень сердишься? Вильма, неужто и у нас такая безрадостная погода?
Он решил, что должен ей написать, но написать что-то совершенно другое, чем хотел поначалу, написать о тех на первый взгляд пустяковых и все нее главных вещах: о еде, о холоде и голоде, о товариществе, даже о таком товариществе, когда, собственно, и товарищей уже нет. Написать! Написать, написать, написать!
Но он не написал.
Потому что — мы же сказали — иногда времени не хватало, а если и хватало, так либо он был изнурен, либо просто ему нечем было писать. А когда, случалось, вечером или ночью его поднимали идти на какое-нибудь небольшое дело в деревню — уничтожить немецкий патруль, а может, всего лишь кого обокрасть или чего-нибудь выведать, — он едва ли вспоминал о ручке или бумаге; не вспомнил он об этом даже тогда, когда наткнулся на почту, а в другой раз и на добросердечного, но крайне пугливого почтаря, который покормил его ужином, потом трясущимися руками нашарил в почтарской сумке ключ от канцелярии, соседней с его комнатой; кроме обычных вещей, какие бывают на почте, там были еще и мешки, доставленные как раз в тот день благодетельной почтой, и в один из них почтарь насыпал ему четыре литра коричневой фасоли, но Имро, хотя там тогда все внимательно оглядел, радовался только ужину, а еще больше фасоли, оттого-то он так похлопывал почтаря, охотно бы и расцеловал и обнял его — однако даже тогда он не вспомнил, что почта служит и для другого.
Читать дальше
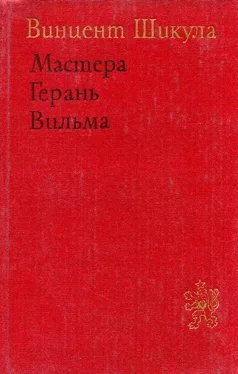




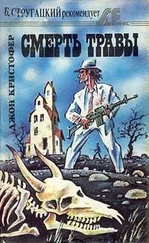

![Юго Вебер - Герань мистера Кавендиша [СИ]](/books/407249/yugo-veber-geran-mistera-kavendisha-si-thumb.webp)
