— Командир говорил, что этой ночью будем опять спать где-то на сеновале.
— Он все время толкует о сеновале. А скажи-ка, скажи, сколько раз ты на нем спал? Интересно, какой такой сеновал. Прошлой ночью я и глаз не сомкнул.
— И я спал только так, одним глазом, и то недолго. Еще и сейчас в сон клонит. И устал я. И покурить охота. Осталось чего в мешке-то?
— Есть маленько. — Причетник улыбнулся. — Но табак ли это, трудно сказать. Однако сейчас и негоже курить. Как придем на место либо привал где устроим, напомни мне. Только шепотом!
6
А однажды, когда причетник опять раздавал ребятам курево, кузнец Онофрей вдруг вышел из себя и с такой яростью кинулся на него, что, казалось, недалеко и до драки. — Слышь-ка, ты, звонарь от двух костелов, — кричал он, — докуда в дураках меня держать собираешься? Думаешь, это меня забавляет, думаешь, я такой олух? Это табак, да? Ведь это буковый лист! Дьявольщина! Как двину в рожу — родная мать не узнает.
— А ты что хочешь, ну что от меня хочешь? Что я тебе дам? — обиделся причетник. — Даю то, что имею. Все это курят.
— Не дурачь меня! Болван! Ведь это табаком и не пахнет!
Причетник дернул плечом. — Если у тебя есть табачок получше, так и свертывай из него.
1
Где Имрих? Что с ним? Почему не отзывается?
Я почти каждый день хожу к Гульданам и всякий раз спрашиваю про Имришко, впрочем, не так уж и спрашиваю, только пошарю глазами по комнате, а как встречусь взглядом с Вильмой или мастером, сразу все становится ясно: Имро не вернулся. Это между нами, и говорить об этом нет надобности. Да и вообще, слова о нем нельзя обронить. А мы вот роняем, и довольно часто. Нам нравится говорить об Имришко. Я столько раз слышал у Гульданов, как произносят его имя, что и сам стал думать о нем больше прежнего, и теперь частенько произношу его имя дома, в школе, на улице — всюду, и до чего мне тоскливо становится! Иной раз приду из школы домой и даже не поем как следует, только брошу книги в угол и быстрей к Гульданам. — Имро не воротился?
— Нет, не воротился.
Если б вы знали, как я жду его. Сперва я ждал только нашего Биденко, но он пал в бою, так все о нем говорят, а я все равно еще немножко жду и про себя думаю, что, может, он и не пал, он все-таки не мог пасть, оттого я по нему и не плакал. Я ведь не люблю плакать. Даже когда плачу, мне не хочется плакать. И в особенности из-за нашего Биденко не хочется. В конце-то концов, почему именно он должен был пасть, почему именно наш, именно наш Биденко? А если и пал, все равно до конца я в это не верю, просто это слово означает для меня совсем иное, чем для других. Поэтому я не плакал, не плачу и, наверно, плакать по Биденко не буду, хотя немного и переживаю, хотя и ждать приходится. Ну и что из этого? Я ведь умею ждать. Я уже научился и, может, еще больше научусь, потому что и Вильма в этом мне помогает, а я помогаю ей. Я же взаправду думаю, что наш Биденко однажды воротится. А как воротится, наверняка мне чего-нибудь принесет, из такой-то дали человек должен все-таки чего-нибудь принести. И особенно он. Особенно наш Биденко. Он любил мне приносить. Когда был дома, всякое приносил. Сколько раз так бывало! Ведь иногда человек найдет что и на дороге. Идете, идете и вдруг замечаете, что перед вами что-то лежит, стоит только нагнуться, и оно ваше. Мало ли чего я вот так находил. А там, в России, там, говорят, столько всяких дорог, ну а на стольких-то дорогах всегда чего-нибудь да найдется, как не найтись?! У нашего Биденко уж точно все карманы набиты, оттопырены, только бы из них ничего случайно не выпало, только бы какой, непутевый дружок у него чего не стибрил! Зачем люди говорят такие глупости? Ну мог ли он пасть? Фигушки, пал. Если он пал, то где, где все, что он нашел или получил и что должен был мне принести? А все твердят одно: пал, пал, пал! Ведь и я падал, и не однажды, а кто не падал? И всякий раз потихоньку озирался, не видит ли кто, потому что любому человеку неловко, когда люди видят, как он упал; иногда бывает и больно, но он сразу же вскакивает и обычно, даже не отряхнувшись путем, идет себе дальше, а кто еще нарочно раз-другой подпрыгнет, чтобы все так глупо не выглядело и чтобы люди не знали, что было больно и до сих пор болит. Ведь не всегда достается одному колену, иной, падая, может и руку сломать, да и нос расшибить. Коленку и нос я частенько расшибал, а вот с рукой покуда ничего не было, я даже двум-трем дружкам завидовал, что у них было что-то с рукой, втихомолку даже мечтал, чтобы и со мной такое случилось, чтобы и у меня она хоть раз сломалась. Мне просто интересно было: затрещит ли что в руке или хрустнет? До сих пор меня такие вещи занимают. Только родителям ни к чему о том знать, и я, коли нет особой надобности, много о себе не рассказываю. Зачем все на них взваливать? У них и без того хватает забот, а потом ведь родители — они такие, все поучают, поучают, они должны поучать и, пожалуй, делают это с охотой, а вы, может, и любите, когда вас поучают, но у родителей, естественно, всегда какие-то заботы, мало времени — вот и лучше всего коротко да лучше всего по уху. А когда в свою очередь вы или я хотим им чего объяснить, так снова эти их заботы, это их время, а если вы стараетесь быстро им объяснять, до них, как правило, не доходит, и ни с того ни с сего — бац! Могут же у человека иногда быть какие-нибудь секреты! Ведь и у них есть. И про Биденко они хотели сперва от меня утаить, делали вид, будто он не погиб, и все ходили, ходили и по углам все о чем-то шушукались и хлюпали носом. Потом отец рассердился и сказал маме: «Ну чего хлюпаешь? Скажи ему!» А я сразу догадался, о чем может быть речь. Если мама плакала, то почти всегда из-за Биденко. Я сказал отцу: «Тата, ты почему на нее кричишь, если видишь, что она плачет? Скажи ты мне про это! Ведь я все равно знаю». — «Раз знаешь, так зачем тебе и говорить? Погиб наш Биденко. Упокоился. Домой уже не придет. Но я не верю в это, не могу поверить, и ты, Рудко, тоже не верь, ведь это же ерунда!» Но отец мало-помалу стал верить, а я все еще цепляюсь за его слова, не хочу верить, что Биденко погиб, потому что и он, родной мой отец, сказал мне, даже крикнул: «Не верь, Рудко, ведь это же ерунда!» Ну, что я теперь должен обо всем этом думать, ну скажите, пожалуйста! Что об этом мне думать? Что я должен думать о Биденко? Ерунда, конечно же ерунда! Хоть бы знать больше! Я бы и в календарь записал об этом точнее, я люблю в календарь записывать. Я и о Биденко записал, что он уехал, а когда потом он погиб, тата подал мне календарь, правда, уже на другой день, да, уже на другой, подал календарь и сказал: «Запиши! Запиши и это!» И я записал, там оно, этот календарь всегда у меня под рукой, и так бы хотелось еще что-нибудь написать в нем про Биденко, но я не знаю, не знаю что, только все думаю, переживаю, а умного ничего нейдет в голову. Хоть бы нашлась еще какая-нибудь другая ерунда! Вот идешь по дороге, шагаешь и вдруг что-то находишь. На дороге всегда что-нибудь находишь. У меня в карманах полно всякой ерунды, а вот для календаря ничего, ничего пока еще не нашел. Мне пока нечего туда записать. Но все равно не верю! Не верю, не верю! Биденко не погиб! Ерунда это, ерунда, ерунда!
Читать дальше
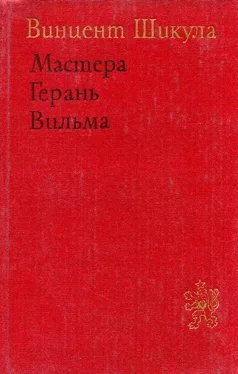




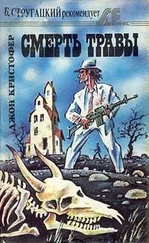

![Юго Вебер - Герань мистера Кавендиша [СИ]](/books/407249/yugo-veber-geran-mistera-kavendisha-si-thumb.webp)
