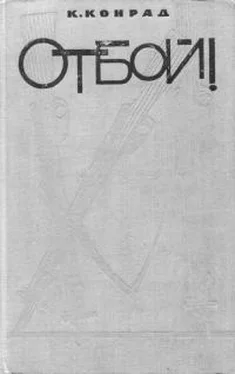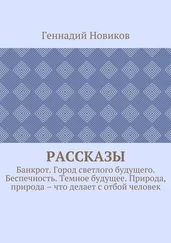Скоро ли будет избавление?.. [142] Кроме этого дневника, сохранился еще один, больший по размерам — в нем пятнадцать карандашных зарисовок, сделанных главным образом во время военных действий в Альпах. (Прим. автора.)
2
Домой, в Чехию, можно ехать только по южной дороге на Вену, а оттуда через Брно или Табор. Выбирать не приходится, Deutschmeister’ы решают все за вас. Заранее ничего неизвестно, как всегда на войне. Поезда обычно запаздывали на десять часов и больше. Кроме того, никогда нельзя было предугадать, не встретится ли по дороге какой-нибудь особо важный состав, которому придется уступать дорогу.
Какой, однако, восторг ехать домой! Изумительно! В таком блаженном состоянии разве только влюбленные едут к венцу.
Минутку постоишь у окна. На сердце волнение, точно объявлена неприятельская атака. На минутку вмешаешься в общую болтовню в вагоне… Нет, не усидеть на месте. Что за бесенок вселяется в отпускника?
Все мои попутчики навеселе. От всех несет табаком и алкоголем. Как ползет поезд! Устав от непрерывного напряжения, я засыпаю в какой-то немыслимой позе. Просыпаюсь внезапно и с испугом — не загнали ли нас куда-нибудь на запасный путь? Опять мы бесцельно стоим уже с полчаса, черт возьми!
У меня неделя отпуска и восемь дней на дорогу. Эх, кабы приехать на несколько часов раньше, урвать время от мотания в поездах. Но нет, составы с отпускниками всюду идут в последнюю очередь, все другие поезда пропускают раньше.
Радость возвращения домой сменяется мрачной мыслью: а вдруг я пробуду в дороге дольше положенного срока? Урезать и без того куцый отпуск? Это ужасно! От волнения мне не спится даже ночью. Я бодрствую почти все время, точно на посту в окопах.
Пейзаж за окном понемногу меняется. Ночь, день. Ночь, день. Усталые ноги, скверный кофе, обмотки, запах пота и несвежего дыхания — все воинские вагоны на один лад.
Минуты тянутся бесконечно. Какой-то денщик сообщает, что в Любляне будет специальный ускоренный поезд до Вены. «Мой майор, — в нем вся команда души не чает, — поедет в этом поезде, и я тоже пересяду с его вещами туда».
Мы взволнованно скатываем шинели. Действительно, в Любляне стоит какой-то длинный состав. Его охраняет конвой с примкнутыми штыками. Это чтобы никто из наших не пересаживался в этот поезд.
— Кто знает, куда он идет. Как бы не попасть впросак.
— Да нет, ребята, это же Schnellzug! [143] скорый поезд (нем.) .
— твердит рябоватый денщик.
Орава отпускников размышляет, она не совсем уверена в словах денщика. Однако этот конвой что-нибудь да значит. Да и рельсы, на которых стоит поезд, выглядят как-то свежей и разъезженней.
Из всех вагонов нашего поезда начинается напористая атака на соседний состав. Конвой не может управиться, нас слишком много. Крик, потасовка — борьба идет не на живот, а на смерть. Тому, кого задержат, не видать отпуска!
— Сюда! Лезь скорей! Под вагон, эй, ты, недотепа!
От вокзала на помощь конвою спешит еще один взвод.
Крик и сопротивление задержанных. Ну и жизнь! Целый год торчишь в окопах, головы нельзя поднять, того и гляди тебя подстрелят итальянцы, а теперь тебе так «услаждают отпуск».
Сердце бьется от страха и решимости. Заветный поезд тронулся. Мы во весь опор мчимся вслед, догоняем его и вскакиваем на подножку, придерживая на спине тяжелые мешки. Несколько мешков падают наземь — пиши пропало, они уже под колесами! Но большая часть отпускников осталась на вокзале. Они не успели проскочить под вагонами на другую сторону, и теперь их сдерживает усиленный конвой.
Едем! Еде-е-ем! «Нас войне не одолеть!»
— Очень возможно, — говорит один фронтовик, — что начальство заметило, как мы сюда влезли. Оно возьмет да объявит наш старый поезд Schnellzug’ом, а этот сделает простым, маршрутным. Поди-ка ты, парень, поищи во втором классе своего дорогого барина; он, наверное, все знает.
— Иди, иди, филон, надо узнать, как дела, в крайнем случае мы что-нибудь предпримем в Мариборе.
Майора нигде не оказалось.
— Эх, пропащая жизнь! Идите кто-нибудь, спросите у машиниста.
— Машинист ничего не знает. Откуда ему знать, что будет в Граце? Тут с поездами распоряжаются как хотят, еще почище, чем с нами.
— Во всем виноват чертов денщик. Ежели приедем в Вену с опозданием, выбросим твои манатки из окна, так и знай!
Поезд мчится через Альпы. Идиллические пейзажи, прелестные долины чередуются как картинки в соннике. Но сердца наши полны нетерпения, я гляжу на живописные горы и не вижу, не замечаю, не воспринимаю их, не помню, какой пейзаж только что промелькнул перед нами. Нас сплачивает солидарность смертников, получивших отсрочку. Мы уже запачкали, заплевали чистые вагоны, наполнили их запахом казармы. В брани, в мимолетных репликах — во всем царит дух фронта. Собравшись в кружок, мы коротаем время, по очереди рассказывая о самой страшной минуте, которую каждый из нас испытал на фронте. Рассказы ведутся с шутливой степенностью, рассказчики в изобилии употребляют сокращенные выражения, принятые на фронте. Это нечто вроде стенографических обозначений, но они всем понятны, это жаргон старых фронтовиков, аборигенов окопа и землянки. Никто не требует пояснений, каждому ясно, о чем речь. Штатскому пришлось бы рассказывать совсем иначе, описывать подробнее. А в своем кругу можно пользоваться сокращениями. Все мы жили одинаково напряженной жизнью, в одинаковых условиях. У фронтовиков все было общее — жратва и голод, вши, болезни и усталость, юмор, чаяния и ненависть. Поэтому мы можем разговаривать с предельной лаконичностью, одними намеками, непонятными тому, кто не принадлежит к нашему кругу.
Читать дальше